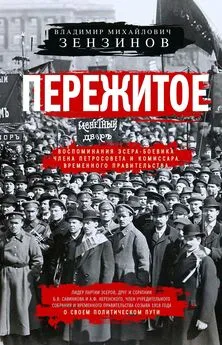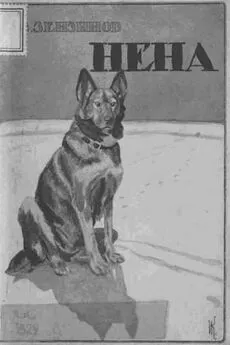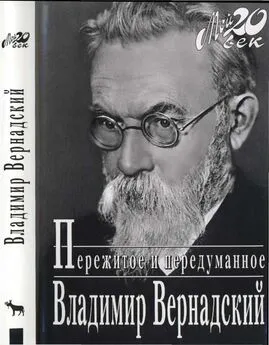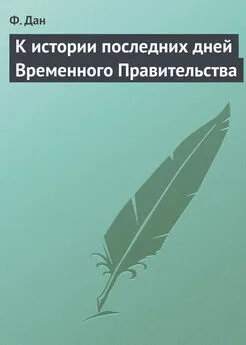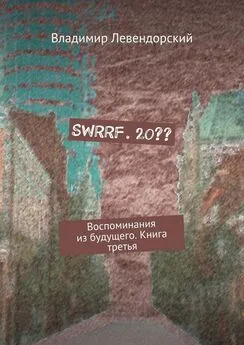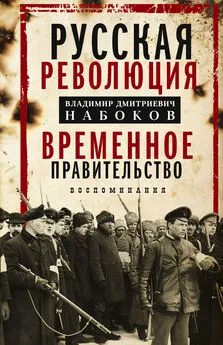Владимир Зензинов - Пережитое. Воспоминания эсера-боевика, члена Петросовета и комиссара Временного правительства
- Название:Пережитое. Воспоминания эсера-боевика, члена Петросовета и комиссара Временного правительства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-227-09866-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Зензинов - Пережитое. Воспоминания эсера-боевика, члена Петросовета и комиссара Временного правительства краткое содержание
В.М. Зензинов написал две книги воспоминаний – «Из жизни революционера» и «Пережитое». Над первой книгой он работал в 1919 году, после того, как адмирал Колчак выслал его из России. Вторая книга – «Пережитое» – писалась на склоне лет, в эмиграции. В ней В.М. Зензинов более полно описывает исторические факты, а также личные подробности… Ио повествование обрывается на событиях 1908 года, связанных с разоблачением провокатора Азефа. О происходящем позже – о годах Первой мировой войны, о Февральской революции, Октябре 1917 года, Гражданской войне – можно узнать из книги «Из жизни революционера», фрагменты которой включены в приложение к данному изданию.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Пережитое. Воспоминания эсера-боевика, члена Петросовета и комиссара Временного правительства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Коля Очередин – живший у нас студент-сибиряк, считавшийся у нас «первым силачом», – хватал обоих драчунов и, держа каждого у себя под мышкой, уносил наверх на антресоли, где жили наши студенты, и там запирал каждого отдельно в темной комнате. И помню, как, наплакавшись один в запертой комнате, я приходил к твердому убеждению, что несправедливость, с которой «всегда» и «все» относятся ко мне в семье, именно тем и объясняется, что я не родной сын, а подкидыш! Воображаю, как во время таких расправ со мной страдала мать, как, вероятно, она хотела меня утешить и приласкать. Но она никогда этого не делала, зная, что это могло дурно отразиться на моем воспитании.
В силу ли того, что мать любила меня больше других своих детей, потому ли, что я с самых юных лет отличался от других своими более определенно выраженными духовными интересами, но мать отстояла меня от того, чтобы, как и других сыновей, отдать в Александровское коммерческое училище, как этого определенно хотел отец. Мать почему-то мечтала, чтобы я был доктором, – ее доброму сердцу карьера помогающего другим людям врача казалась соблазнительной. И она упорно сопротивлялась желанию отца, проявив тут неожиданно свой сильный характер, – до сих пор она ни в чем отцу не прекословила. Но я сам не хотел идти в университет! Я уже в течение нескольких лет слышал увлекательные рассказы обоих моих братьев об Александровском коммерческом училище, знал по этим рассказам всех его преподавателей, знаменитого физика Жуковского, химика Колли, инспектора Чекалу и директора, знал и многих товарищей моих братьев. И помню, как меня утешала и уговаривала мать: на одном из «Сибирских вечеров» в Благородном собрании, которые мы неизменно каждый год посещали, она мне указала на нескольких студентов университета в полной парадной форме – в мундирах с блестящими пуговицами, с золотыми галунами на воротничках и на рукавах и, главное, со шпагами на боку! Этому я был уже не в силах сопротивляться. Мать выиграла игру не только у отца, но и у меня.
Меня отдали в классическую гимназию.
2
Годы юности
Каждый раз, когда здесь, в Америке, я встречаю группу школьников, осматривающих, под руководством учителя, какой-нибудь музей, вижу, как доверчиво и дружески дети обращаются к своим руководителям, мне становится завидно. Я чувствую при этом не только зависть, но и горечь. Мы в России, во всяком случае мое поколение, этого не знали: в наши школьные годы между нами и нашими учителями всегда была пропасть.
И даже хуже, чем пропасть – вражда, часто переходившая в ненависть. Мы наших учителей не любили и не уважали, а они были к нам глубоко равнодушны. Почему это так происходило, я не знаю, но думаю, что на нас вины за это было меньше, чем на наших учителях. Мы, школьники, были такие же дети, как и во всех других странах и во все другие времена, то есть дети с хорошими и дурными задатками, и из нас, как из мягкого воска, можно было вылепить что угодно. Но наши учителя были по большей части дурными педагогами и скверными воспитателями.
Вот одно из первых моих впечатлений в гимназии. Это было, вероятно, через одну или две недели после поступления в гимназию – мне было тогда девять лет. Что могут и должны делать в этом возрасте дети, собранные в количестве сорока человек в одной комнате и предоставленные самим себе? Конечно, прежде всего шалить! Это так же естественно, как естественно резвиться и плескаться в воде стайке рыб. И если порой шалость выходит за пределы допустимого, умный педагог должен остановить слишком увлекающихся шалунов и объяснить им, почему их шалости чрезмерны и недопустимы. А наказать шалунов можно лишь после того, как они сделанных им указаний не послушают.
Все это элементарно. Но у нас в классе произошло следующее. Один из шалунов придумал забаву: сделал бумажную трубочку и из нее, как из духового ружья, стрелял жеваной промокашкой… Если такая «пуля» попадет в стену или потолок, она крепко к нему прилипнет. Занятие увлекательное – и скоро потолок в нашем классе покрылся звездами и созвездиями из красной жеваной промокашки. Я тоже принял участие в этом веселом занятии. Конечно, это переступало границы невинной шалости, но вряд ли этот проступок можно было назвать серьезным преступлением. Иначе отнесся к этому наш классный наставник. Он не стал нам разъяснять, почему такая шалость недопустима, – он заинтересовался лишь тем, КТО были преступники. Но мы молчали – никто не сознавался и никто не выдавал друг друга. Долго требовал он сознания и выдачи преступников, угрожая им и всем нам. Мы упорствовали, среди нас не оказалось ни малодушных, ни предателей.
Тогда он пошел на хитрость и заявил, что для первого раза заранее прощает виновных и просит их сознаться только для того, чтобы знать, кто был на это способен, – виновные наказаны НЕ БУДУТ! Мы пошли на эту удочку и доверчиво признались – среди признавшихся был и я. И каково же было наше недоумение, больше того – наш ужас, когда все сознавшиеся, несмотря на торжественное обещание классного наставника, жестоко были наказаны: оставлены после классов в запертой комнате на два часа! Помню, что больше всего мы испытали это как моральный удар: наш воспитатель дал нам обещание, которому мы поверили, и тут же нас обманул. С этого момента никакого доверия к учителям мы не могли иметь.
За все восемь классов и восемь лет, что я пробыл в гимназии, у нас с нашими преподавателями было состояние более или менее открытой гражданской войны. Почти никто из них не сумел заинтересовать нас своим предметом. Греческий и латинский языки, казалось нам, были изобретены лишь для того, чтобы нас мучить. Не мог нас заинтересовать даже преподаватель русского языка и русской литературы, хотя это и был Владимир Иванович Шенрок, исследователь Гоголя. География была мертвой наукой – просто сухим перечислением географических названий. И она была особенно неприятна, когда перед глазами была «немая» карта, на которой мы должны были показывать и называть горные хребты, моря и реки всех пяти частей света. Ненужной выдумкой казалась нам физика, в которой многому мы просто не верили, и даже космография. К математике я питал органическое отвращение и, по совести, до сих пор не понимаю, для чего нам необходимо было изучать сферическую геометрию, тригонометрию, бином Ньютона и мучиться над логарифмами. Даже история не могла никого из нас заинтересовать…
Мы изучали все это лишь потому, что этого от нас требовали, а преподаватели преподавали, потому что такова была наша учебная программа, продиктованная им Министерством просвещения. Когда уже взрослым я заново стал изучать мир классической древности, то горько жалел, что и те крохи латинского и греческого языков, которые мы из гимназических лет вынесли, мною были почти совершенно забыты: как бы я хотел теперь снова перечитать и услышать толкование Цезаря, Овидия, Виргилия и Горация, Платона и, особенно, Гомера! Когда-то я все это читал, но все это было для меня мертвой буквой, уроками, которые надо было отвечать и которые можно было выучить или не выучить… Почему нас этим не заинтересовали, даже не пробовали заинтересовать, не говорю уж о том, что никто не старался, чтобы мы это полюбили? Спрашивается, кто был виноват в этом? Конечно, не мы, школьники, а наши преподаватели, вся наша мертвая и мертвящая школьная система.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: