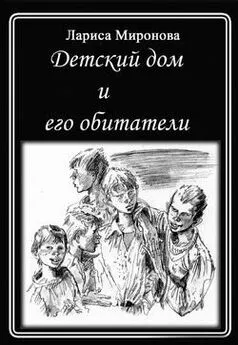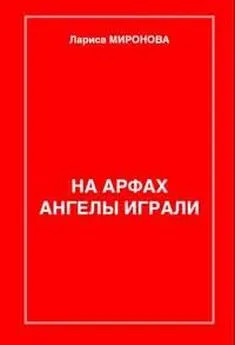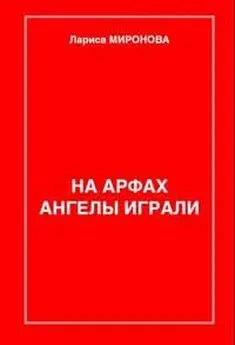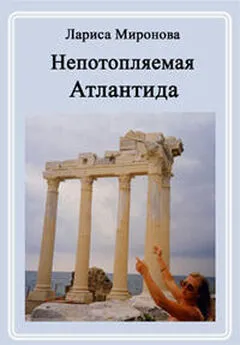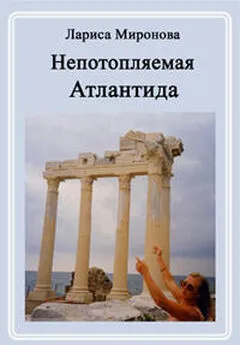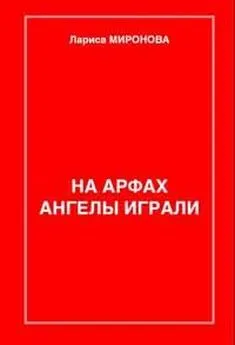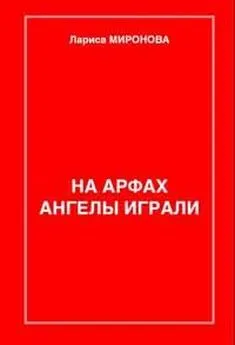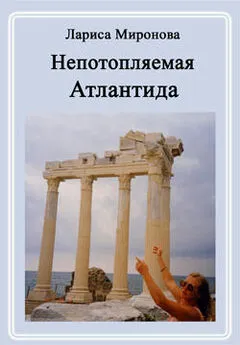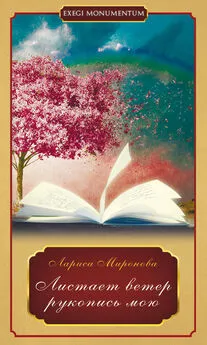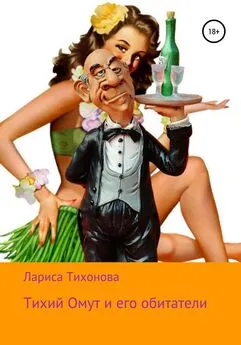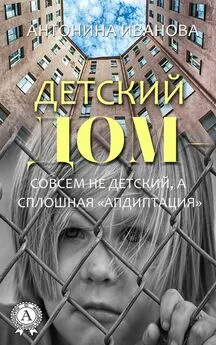Лариса Миронова - Детский дом и его обитатели
- Название:Детский дом и его обитатели
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лариса Миронова - Детский дом и его обитатели краткое содержание
Нет на земле более мучительного горя, чем сиротство… Тем более, сиротство при живых родителях. Боль ребёнка облегчается людской добротой, испокон свойственным нашему народу милосердием. Но никто не заменит ребёнку его настоящих родителей. Так распорядилась природа души человека. Вдвойне ужасает, когда святым чувством долга прикрываются жестокие и корыстолюбивые люди там, где, казалось бы, и мысли столь кощунственной возникнуть не может – в некоторых наших детских домах и школах. Как такое могло случиться? Кто виноват в жестокости подрастающего поколения?
Детский дом и его обитатели - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Чтобы остановить зарвавшегося, обычно говорят: «Основной, что ли?»
Основным всё позволено – это местные боги, они идут сразу за богами высшего ранга – основными из бывших.
Ну, какая добыча сегодня?
Картошка вот в контейнере – «бери – не хочу», её вообще никто не учитывает. Стоит себе и стоит. Масло вот почти всегда стоит в тарелке на мойке – порций десять, а то и больше. Капуста, морковь, лук – берите, пожалуйста, вот тут же, в коридорчике, в мешках, отоваривайтесь, граждане, в порядке очереди…
Однако «шмон» на кухне – самый ещё безобидный промысел. Случались тут и настоящие погромы. Проводили их бывшие, конечно же, не без наводки. Делали это так: взламывали замок на двери кладовой, затем ломиком сбивали навесной замок на холодильнике. И тогда на следующий день детдом оставался без масла, сыра, колбасы (а то и без мяса – мясную тушу подрежут, филейные части). В общем, без всего того, что можно быстро унести в сумках – ведь если сработает сигнализация, через полчаса приедет, может быть, милиция, если, конечно, ночная своевременно сообщит…
Воровали, конечно, и днём. Называлось это занятие вполне невинно – «скрадывать». Чаще скрадывали полдники: яблоки, конфеты, вафли, булки. Прямо из отрядной! Отлучился воспитатель на минутку, ну и… ищи ветра в поле! Приходят опоздавшие и печально так созерцают пустой поднос…
Съесть в столовой чужую порцию, если что вкусное, – дело тоже вполне обычное. А что – сам виноват, не опаздывай, кто зевает, тот юшку хлебает…
И делали это вовсе не оттого, что хронически голодали. Просто так заведено было.
Подъём – дело каторжное. Это тоже надо отдельно объяснить. Старших утром не разбудишь – спят-отсыпаются, сони, после ночных развлечений, ну а малышня чаще все поголовно «жаворонки». Едва рассвет забрезжит, уже выскочили из спальни и унеслись куда подальше… от детдома. Ускользали, как правило, через окна – лазать по карнизам обучались с младенчества, это весьма полезный навык для обитателя госучреждения, совершенно необходимое умение: чтобы и от воспитателя вовремя смыться, и в чужую бытовку, при случае, заглянуть. А вот ещё – заставить детей делать уроки на самоподготовке. Это даже труднее, чем отбой проводить без воспитателя. Ночные дежурные – страдалицы и великие мученицы.
.. Для нас все дети – наши!
Итак, я разработала на первых порах программу-минимум – как довести наших «незнаек» до уровня хотя бы середнячков из домашних. Однако «постановить» и «исполнить» – всё-таки далеко не синонимы. С чего начинать и как вообще провернуть это казавшееся немыслимым мероприятие, я смутно себе представляла.
– А вы сходите в школу, на уроки, – посоветовала мне воспитательница второго отряда (у неё в отряде с учебой был относительный порядок – двоечников всё же меньше, чем остальных).
Я так и поступила.
Выбрала часы, когда идут самые «срывные» уроки – те, на которых учителю и рта не раскрыть. Стою в коридоре, под дверью седьмого. В этом классе больше всего моих ребят. Ласкают слух «перлы»:
– Заткнись, урррод!
– А в хатальник не хочешь?
Идёт обычный обмен любезностями между моими и домашними. Осторожно приоткрываю дверь, заглядываю в класс. На последних партах увлеченно режутся в дурака. На линии сближения – посередине класса – вот-вот разразится баталия. Двое уже вцепились в патлы друг друга. Охрипшая от бесконечных окриков, заведенная до предела несчастная учительница тщетно пытается переорать учеников – уже стоит невообразимый ор и свист.
И тогда она прибегает к последнему средству – начинает ставить всем подряд «пары». А зря! Никого это, конечно, не пугает. Мои-то точно знают – за четверть всё равно выведут «тройбаны». Детдомовцев на второй год не оставляли. Вхожу (завуч дала разрешение, хотя и не очень охотно). Взгляд учительских глаз красноречив – «сами видите»… Моё появление ещё более накаляет атмосферу. Но теперь мои ведут себя уже по-другому. Сотворят какую-нибудь пакость и тут же уставятся на меня бесстыжими гляделками: ждут, когда урезонивать начну (мол, свою слушать будем). Вот такие штучки эти детки… Визиты на уроки пришлось прекратить. И так уже всё ясно.
.. Потом я много раз ходила в «инстанции», в том числе, и в роно – с просьбой отделить детдомовцев от домашних, посадит их в разные классы. И родители домашних тоже хлопотали о таком разделении, однако на все эти слезные просьбы был один ответ: «Мы не можем делить детей… Для нас все дети – наши!» Но это было демагогией чистейшей воды. И страдали от этой уравниловки все – и домашние дети, и наши воспитанники, и родители, и, конечно же, мученики-учителя. И сколько я не пыталась объяснять высокому руководству, что, закрывая глаза на видимые противоречия, мы лишь усугубляем их, понимания достичь не удалось.
…Когда я сама училась в школе, в восьмом классе, учительница, в знак особого расположения, за усердную учёбу дала мне ключ от кабинета биологии – надо было убирать там после уроков, цветы поливать, следить за сохранностью экспонатов. Какой же это был расчудесный мир! И у меня было законное право проводить в нём всё свободное время.
Однажды в нашем интернате… (а это была обычная школа-интернат, где обычных детей-сирот было мало. Как правило, учились в тогдашних интернатах дети, чьи родители, по характеру работы или по причине небольшого достатка, не могли обеспечить своим детям должный уход и заботу. Но всё это были вполне нормальные дети здорового общества, никто из воспитанников никогда не становился «асоциальным элементом», а если такое и случалось, то не чаще, чем с выпускниками обычных школ. Сейчас в том интернате, где я когда-то училась, вспомогательный детдом, где живут и учатся дети с врожденной патологией – больные дети больного общества…) так вот…сдохла свиноматка в подсобном хозяйстве. От неё осталось семеро двухдневных поросят. Девать их, таких малышей, было некуда, и я попросила отдать их мне – в кабинет биологии. Кормились поросята из соски. Из всего выводка выжили всего трое.
Когда поросятам исполнился месяц, и они уже довольно бодро похрюкивали, из лесу ребята принесли четверых слепых волчат. Стали они жить вместе со свинками и в одной большой клетке, и тоже кормились из соски.
Теперь кабинет биологии стал самым популярным местом в школе. У меня же появилась целая бригада помощников-добровольцев – вставали в очередь на уборку кабинета и кормление животных. А потом к этому пестрому семейству прибавилась ещё и утка-нырок. Птица, похоже, ударилась о провода высоковольтной линии и лежала на земле – в шоке, её случайно подобрали наши дети во время прогулки. Вскоре прибыл ещё один клиент – заяц-русак, сильно покусанный и потрёпанный, наверное, лисой или собакой, но всё же ещё живой. Потом уборщица принесла кошку с котятами, а шефы с химзавода подарили аквариум с рыбками. Кабинет биологии превратился в Ноев ковчег. И вот, в один прекрасный день, волчата… залаяли – и стало ясно, что это вовсе не «серые», а обычные щенята овчарки, которых какие-то люди просто отнесли в лес и бросили там.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: