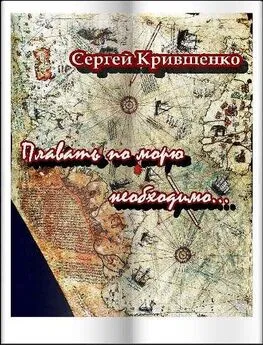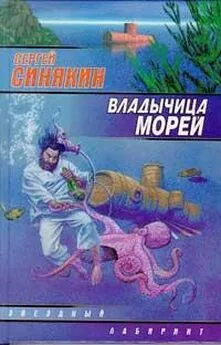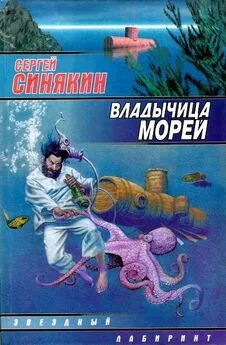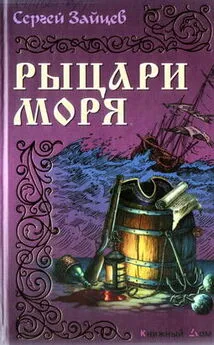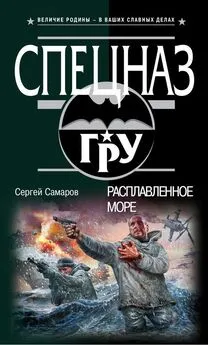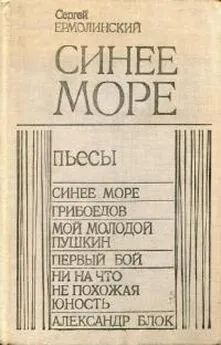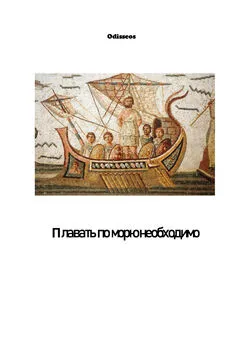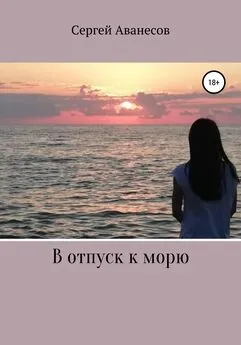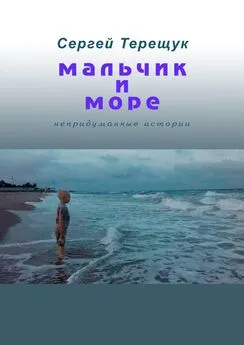Сергей Крившенко - Плавать по морю необходимо
- Название:Плавать по морю необходимо
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Дюма
- Год:2001
- Город:Владивосток
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Крившенко - Плавать по морю необходимо краткое содержание
Книга литературно-исторических очерков посвящена русским землепроходцам и мореплавателям, а также известным русским писателям, отразившим в своем творчестве тему открытия и освоения Дальнего Востока России, тихоокеанских плаваний. Автор исследует «путешественные записки» знаменитых мореплавателей, их очерково-мемуарные книги, историческую прозу русских писателей-маринистов.
В книге продолжены темы и мотивы предыдущих работ автора: его монографий «Утверждение мужества» (Хабаровск, 1974), «Берег Отечества» (Владивосток, 1978), «Дорогами землепроходцев» (Владивосток, 1984), «Героика освоения и социалистического преобразования Дальнего Востока в русской и советской литературе» (Владивосток, 1985), «Берег Отечества: романтика героизма в литературе о Дальнем Востоке» (Москва, 1988).
Автор — член Союза писателей России, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русской литературы ХХ века и теории литературы факультета русской филологии ДВГУ, действительный член Русского географического общества.
Плавать по морю необходимо - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Есть еще один мотив, который сближает книгу И.А. Гончарова «Фрегат „Паллада“» и книгу писем В.А. Римского-Корсакова «Балтика-Амур». Лейтмотивом гончаровской одиссеи была мысль о сравнении своего и чужого, родного и чужедальнего, думы о путях развития России, в будущности которой писатель особое место отводил Сибири, Дальнему Востоку (помните размышление о «печальном, пустынном и скудном крае», о титанах, что призваны к труду и работают неутомимо, о подвигах, совершаемых в сибирском краю). У Гончарова — здесь философские скрепы его книги. Римский-Корсаков по-своему, в публицистической манере выходит к мотиву России. И снова, и снова, как и Гончаров, Воин Андреевич возвращается на родную почву, в родную Русь. Здесь и дума о доме, и озабоченность делами на Амуре («Непонятно даже, — восклицает он, — как мы так долго оставляли без внимания такой золотой край») [96] Римский-Корсаков В. Указ соч. С. 124.
, взгляд в историю освоения края, в его складывающееся лицо. «Приятно видеть, что все это поколение сибирских промышленников — звероловов и рыболовов — хоть и далеко от коренной России родилось, но носит печать русской породы, словом, что тут „русский дух и Русью пахнет“ [97] Там же. С. 146.
». И гордость, что ему довелось первым побывать во многих местах. И снова, и снова дума: «Чем-то наша Русь ознаменует себя в летописи человечества?!» [98] Там же. С. 320.
. И здесь по-особому мыслилось значение Дальнего Востока, тихоокеанского берега Отечества не только в хозяйственных делах, но и в формировании, закреплении специфических качеств и черт: «Только здешний край и в состоянии развить у нас в России морскую предприимчивость, в которой мы так нуждаемся» [99] Там же. С. 206.
.
Возникает вопрос: было ли у составителя право объединить письма в единую книгу, да еще дав ей жанровое определение повествования, повести в письмах. Или это своеволие составителя? Думал ли морской офицер о жанре своих сочинений, о том, что его письма составят цельное повествование, книгу? Или он был безразличен к этим жанровым исканиям?
Двух мнений тут быть не может: и оправданно, и мотивированно возникла такая морская повесть в письмах. Воин Андреевич сам, несомненно, видел свои письма единым повествованием, повестью, книгой. Он и писал письма как единое повествование — отсюда в них и развернутые эпизоды, и портреты, и очерковые зарисовки, и лирические отступления. В этом — своеобразие писем, и при всем этом они не перестают быть письмами — все перечисленное входит в них глубоко органично.
Повествование, рассказ, повесть — вот жанровые определения самого В.А. Римского-Корсакова. Имеет ли напоминание об этом какое-то особое значение? Конечно, имеет. Еще раз убеждаемся, что русские писатели-маринисты, не раз оговаривавшие свою литературную неподготовленность, вместе с тем были не лыком шиты: они стремились заключить свои впечатления в своеобразную форму, искали лучший, наиболее доходчивый и естественный способ изложения материала, владели слогом. Несомненно, повесть в письмах В. Римского-Корсакова — одно из самобытнейших явлений морской документалистики XIX столетия, значительный памятник русской литературы. Есть свидетельство, что быстрый и строгий слог В. Римского-Корсакова высоко оценил А.П. Чехов, — записки писателя-моряка значились в его сахалинском списке под первым номером.
Есть свои особенности в обрисовке героизма в путевых очерках-записках Л.Загоскина, Н. Бошняка, мемуарах Г.И. Невельского и др. Для них, как и для Лисянского, Головнина, Давыдова, характерно стремление видеть героическое в будничном и подавать его без лишнего эффекта, как самое обычное дело. Подчас возможно и не заметить его. Никакой высокопарности, никакого самолюбования. Но при этом сознание своей силы, недюжинности труда, вырастающего до подвига. Таким чеканился русский национальный характер. Таким, а не рабски податливым, как то представляют иные наблюдатели, клеветники России. Без ложной скромности, верно и точно Невельской назовет книгу воспоминаний «Подвиги русских морских офицеров…». Огромное внутреннее горение души скрыто, казалось бы, за самым будничным зачином многих повествований. Совершенно обычно начинается «Двукратное путешествие в Америку» Давыдова. Лишен внешнего эффекта и зачин повествования Л. Загоскина в путевых «Заметках жителя того света» (1840). Накануне Нового года, 30 декабря 1838 года, в два часа пополудни он выехал из Петербурга на Камчатку. «Метель приветствовала мой въезд в Новгород. В Крестцах у станционного смотрителя соловей поздравил с Новым годом; римлянин счел бы это хорошим предзнаменованием, но меня соловей остановил, и только на рассвете самовар своим змеиным шипением разбудил к дальней дороге…» [100] Загоскин Л. Путешествия и исследования Лаврентия Загоскина в Русской Америке в 1842–1844 гг. М., 1956. С. 325.
. Годы многотрудного путешествия по Аляске и его итог — замечательная «Пешеходная опись русских владений в Америке».
Путешественник должен быть готов ко всякой неожиданности. Он, по мысли Загоскина, должен быть человеком волевым, смелым, предприимчивым и вместе с тем предусмотрительным, знающим. Еще Ломоносов наставлял, что должен знать и уметь мореход. На это обращает внимание и Загоскин. «Воля, страсть к путешествиям, твердость характера при обзоре стран неизвестных, — подчеркивает Загоскин, — еще не все значит для успеха. Потребна опытность. Какая польза для нации, если б нам довелось пролежать где-нибудь несколько суток под снегом, съесть своих собак, подошвы и прочее без успеха в главном деле, то есть обзора или описи определенного пункта. Такие случаи , как бы они ни выражали героизм путешественника [101] Курсив мой. — С.К.
, право, довольно обыкновенны между туземными охотниками всех стран и всего чаще проистекают если не по оплошности, то, наверное, от неосмотрительности» [102] Там же. С. 326.
. Героизм Загоскин связывает с обязательным выполнением своих исследовательских задач: это голос не просто путешественника, это голос исследователя, голос ученого. В жанровом отношении это книга-исследование, книга-поиск.
Нередко путевые очерки пронизывает трагическое чувство. Случалось, люди не в силах бороться с обстоятельствами, обстоятельства оказывались сильнее их. И зачастую виной тому не стихия, не природные трудности, а равнодушие и на местах, и в чиновничьем Петербурге власть предержащих. Таким трагизмом пронизаны записки лейтенанта Н. Бошняка. Он поведал историю зимовки в только что открытой Императорской гавани. Здесь, на пустынном берегу, вместо предполагавшихся 10 собралось 90 человек. Припасов было заготовлено мало. Показались признаки цинги. «Тогда я, — пишет Бошняк, — еще не имел понятия об этой убийственной болезни». Цинга начала косить людей. За неимением дичи стреляли ворон. «К весне из девяноста человек недосчитались двадцати», — пишет Бошняк. Да, виноват майор Буссе, не позаботившийся о людях. Но не менее виноваты и те, кто там, в сановном Петербурге, равнодушно взирал на героические усилия горстки русских морских офицеров и матросов. Из самой души, как стон, раздается проклятие равнодушию сановных чиновников, думающих только о личном преуспеянии. «Кому случалось видеть честного русского солдата, тот поймет, если я скажу: безбожно и грешно жертвовать их жизнью для личных видов! Но видеть эти святые кончины и не иметь средств протянуть руку несчастному, невольному и бедному страдальцу вдвое ужаснее — я это испытал на самом себе. С тех пор во мне еще более развилось презрение к людям, если они на подчиненных смотрят как на машину для получения крестов, чинов и прочих благ мира сего» [103] Бошняк Н. Экспедиция в Приамурском крае // Морской сборник. 1859. № 10. С. 405.
.
Интервал:
Закладка: