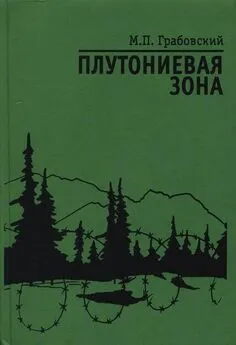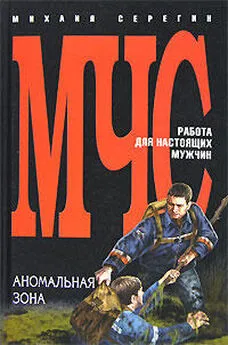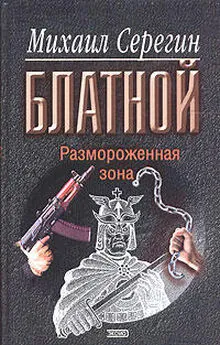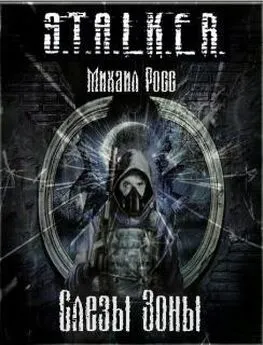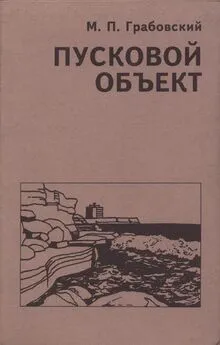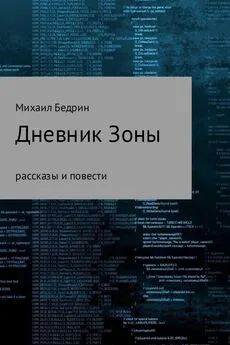Михаил Грабовский - Плутониевая зона
- Название:Плутониевая зона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Научная Книга
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-7871-0036-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Грабовский - Плутониевая зона краткое содержание
Повесть посвящена истории создания атомной бомбы в СССР и основана на документальных фактах.
Хотя некоторые факты и эпизоды перенесены в челябинскую плутониевую зону из истории другого засекреченного города — Арзамаса-16, это, по мнению автора, не лишает повествования исторической документальности.
Автор выражает глубокую благодарность заведующему сектором физики и механики Института истории естествознания и техники РАИ, доктору физ. — мат. наук В.П. Визгину; журналисту В. Ларину; ветеранам атомной промышленности И.П. Лазареву, А.С. Алдошину, А.А. Самаркину, В. В. Доровских, Ю.В. Линде за любезное предоставление ряда ценных исторических документов.
Особая благодарность — редактору А.Д. Шинделю.
Плутониевая зона - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Из воспоминания Е.П. Славского, «Военно-исторический журнал», 1993 год:
«Эта эпопея была чудовищная… Если бы досидел, пока бы все отсортировал, еще тогда он мог погибнуть…».
Всего было извлечено тридцать девять тысяч блочков. Все трубы заменены на анодированные. В середине марта эти же блочки загрузили сверху в новые трубы для продолжения работы. 26 марта 1949 года обновленный реактор был выведен на мощность.
Кузнецов работал на «пятачке» несколько раз. После того, как его кассета зарегистрировала аварийную норму облучения в 25 рентген, он был выведен в «чистые» условия работы. А многие рабочие и начальники смен из патриотических побуждений неоднократно оставляли свои дозиметры в кабинетах и шкафах перед заходом в «грязную» зону. Сам Курчатов с жалобами на здоровье к врачам не обращался, но именно тогда, после этого варварского капитального ремонта, на комбинате были зарегистрированы первые больные лучевой болезнью, официально обратившиеся за помощью в медсанотдел № 71.
Как раз к этому времени был построен первый лечебный корпус, представлявший собой длинное одноэтажное деревянное здание барачного типа. Стационарное обследование всех больных, подвергшихся облучению в первые месяцы 1949 года, проводилось во 2-м терапевтическом отделении под руководством Мойсейцева. Для врачей наплыв больных в начале этого года являлся совершенно неожиданной «лавиной в горах». Никакого опыта лучевой терапии у них не было, а зарубежная информация ограничивалась сведениями по острой форме, заканчивающейся большей частью смертельным исходом. Отсутствие знаний, необходимых лекарств, приличных стационарных условий затрудняли работу первых врачей, а существовавшие режимные запреты усугубляли трудности. Врачам было запрещено запрашивать официально зарегистрированные дозы облучения своих больных. Им не разрешалось расспрашивать подопечных об условиях их труда и характере облучения. Нельзя было записывать их устные сообщения в медкарты. Шутов в этих вопросах был тверд, как скала.
Из воспоминаний одного из первых врачей МСО-71 Ангелины Константиновны Гуськовой, 1995 год:
«Память медиков нагружалась огромным количеством фактических данных и цифр, которые было запрещено фиксировать письменно. Появлялись соответствующие уловки или шифры: дозу записывали в виде номера медицинской книжки, название лучевой болезни подменяли термином «астеновегетативный синдром», а наименование нуклидов — соответствующим номером. Все это вносило сложности в работу, затрудняло прочтение документов».
Молоденькие выпускницы медицинских вузов, как, впрочем, и пожилые врачи, опытные терапевты и дерматологи, сочувствуя и сострадая, не знали сами, как помочь этим больным и облегчить их муки. На этих первых больных врачи учились специфической науке диагностики и дифференцирования различных видов лучевых заболеваний.
Нянечки же украдкой плакали от жалости к молоденьким паренькам и от общего медицинского бессилия.
Самых тяжелых отправляли на лечение в Москву, в Институт биофизики.
Андрея тоже включили в столичную группу.
Первые, осторожные жалобы Андрея на плохое самочувствие Татьяна восприняла несерьезно: «Сильные мужчины любят жаловаться, если прищемят палец».
Когда же после осмотра и сдачи анализов Андрея оставили в стационаре, ей вдруг стало ужасно страшно за него и за себя. Его отъезд в Москву на неопределенный срок разом превратил жизнерадостную Татьяну в анемичное существо. После работы ей ничего не хотелось делать дома, в пустой квартире. Сидя на стуле или прикладываясь для короткого отдыха к подушке, она застывала в неподвижной позе. Что теперь будет?
25
Вскоре после эпизодического пускового триумфа на заводе «Б» аварии захлестнули и радиохимическое производство. К сравнительно мелким и постоянным, вроде коррозии оборудования и протечек раствора, добавились более серьезные, которых более всего и опасался Курчатов: самопроизвольные цепные реакции (СЦР).
Хотя утвержденную его регламентом предельную норму концентрации плутония в растворах — не более 150 граммов! — с грехом пополам старались соблюдать, опасность СЦР подкралась незаметно, исподволь. Оттуда, откуда ее совсем не ждали.
Эти аварии казались эксплуатационному персоналу какими-то непонятными и таинственными, и потому воспринимались всеми не как результат обычной оплошности или ошибки, а как наваждение.
Аппаратчицам и технологам стало казаться, что они не застрахованы ничем и никем от любой трагической случайности.
А действительная причина аварии чаще всего крылась в том, что на внутренней поверхности аппаратов невидимо для глаза происходила постепенная адсорбция плутония. На стенках откладывался никак не проявляющий себя до времени твердый налет этого металла. С течением дней, недель и месяцев толщина этого слоя росла, увеличивая массу никем не учитываемого делящегося плутония.
В каких-то аппаратах она приближалась в конце концов к критической отметке. И тогда достаточно было малейшего внешнего толчка — повышения температуры в помещении, уровня в емкости или концентрации, даже в допустимых пределах, — и цепной процесс деления ядер начинал свой непредсказуемый и неконтролируемый разгон.
СЦР могла протекать бурно, со взрывом емкости от теплового расширения содержимого, и более спокойно, даже невидимо для окружающего персонала.
Тогда, в начальный период атомной гонки, никому и в голову не приходило, что технологические емкости необходимо периодически освобождать от растворов и профилактически промывать, очищать стенки от опасного налета плутония.
Первые аварии, связанные с СЦР, воспринимались персоналом угнетающе-трагически как постоянно висящий над головами невидимый дамоклов меч.
Из воспоминаний химика-технолога Лии Сохиной:
«Аппаратчица Р.Е. Секисова находилась возле фильтровальной камеры. В какой-то момент она почувствовала себя плохо. Отошла от камеры и прислонилась к двери. Начальник смены B.C. Петров увидел это и сказал: «Что, пасха подействовала? Иди, работай. Металлурги ждут продукт».
Сам сел рядом с камерой писать рапорт о работе за смену. Аппаратчице опять стало плохо, а Петров, как он сказал позже, почувствовал какой-то жар.
Он отпустил с работы Секисову, а сам подошел к камере, чтобы закончить фильтрование. Тут он увидел, что полотно фильтра как будто дышит: поднимается и опускается само собой.
Гамма-фон на рабочем месте оказался очень высоким. Все, кто работали вблизи камеры, пошли в медпункт. Затем их всех отвезли в больницу. Секисова умерла на тринадцатые сутки. Остальных пострадавших удалось спасти… Когда позже, для выяснения причины аварии, разрезали аппарат, по всей его внутренней поверхности обнаружили слой отложившихся солей плутония толщиной 2–3 сантиметра..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: