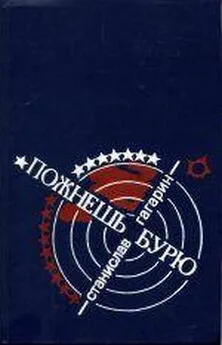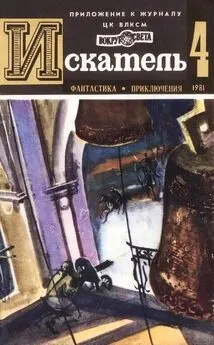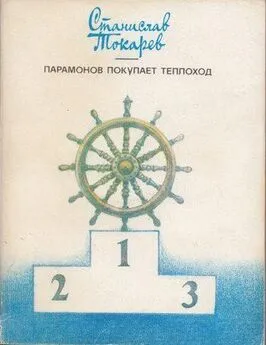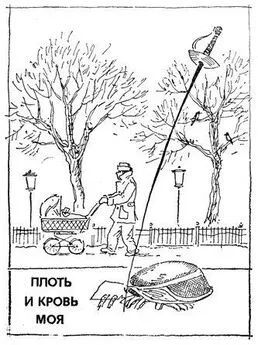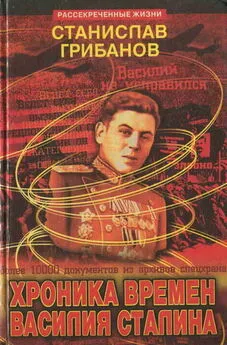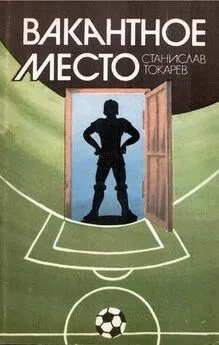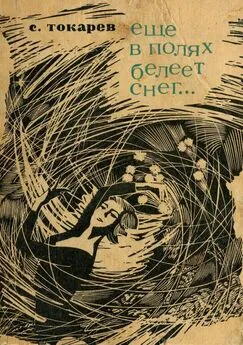Станислав Токарев - Хроника трагического перелета
- Название:Хроника трагического перелета
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Патриот
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-7030-0238-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Токарев - Хроника трагического перелета краткое содержание
Эта историческая повесть стала последней книгой Станислава Токарева. В ней он рассказал о А. Васильеве, С. Уточкине. М. Ефимове, Н. Попове и других первых русских спортсменах-пилотах.
В центре событий произведения, изложенных очень эмоционально и своеобразно по форме, — сверхдальний рекордный перелет Петербург — Москва.
Хроника трагического перелета - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Исполнительный Комитет Совета Рабочих и Солдатских Депутатов». Петроград, 1917 г.
Увы, мы многого не сохранили. Многие документы канули в Лету.
Странна судьба главного героя. Все-то она словно двоится. Две жизни: до первого взлета и после. Два номера пилотского удостоверения. И завершения вроде бы два.
Подобно большинству участников перелета, записался он в 1914 году добровольцем в военно-воздушный флот России. В августе писал сестре: «Я принят в качестве летчика в действующую армию Юго-Западного фронта, завтра утром иду в первую воздушную разведку». И назавтра, вылетев с командиром корпуса генерал-лейтенантом Мартыновым, попал под обстрел австрийцев. Осколком разбило кожух мотора. Спланировал. Сел в районе между Буском и Тернополем. Попал в плен. Пытался бежать. Заключен в штрафной лагерь…
Что далее? Согласно Советской Военной Энциклопедии: «…после Великой Октябрьской социалистической революции командовал одним из красных авиационных отрядов. Произвел несколько боевых вылетов против белогвардейских войск». Так ли? Достоверней сведения биографа: в лагере Васильев пробыл до 1918 года и, не доживя совсем немного до обмена пленными, которым занималась комиссия командования Красной Армии, скончался от болезни спинного мозга, дистрофии и неврастении на 37-м году жизни. Этот же факт подтвержден и в жизнеописании М.Н. Ефимова.
Автор пытался выяснить продолжение судеб других, взлетевших в 1911 году с Комендантского. Это было непросто: в ЦГВИА хранятся служебные дела кадровых офицеров. Прапорщиками, да еще «военного времени» (а более высокого чина удостоился один Янковский) пренебрегали, что ли, штабные писаря?..
Известно, правда, что воевали они — волонтерами — еще против турок в Балканской кампании. Александр Агафонов был шеф-пилотом сербского главнокомандующего генерала Путника. В войсках Болгарии — фон Лерхе, Колчин, Костин. Николай Костин был сбит и погиб.
Михаил Сципио дель Кампо до 1914-го служил в Варшаве инструктором школы «Авиата». Затем уехал в Швецию, работал инженером-теплотехником, с 1932-го осел в Польше и, как упомянуто выше, дожил в уважении и почете до преклонного возраста.
Где-то в Скандинавии теряются в 20-е годы следы инженера Агафонова.
Слюсаренко… Его постигло несчастье — любимая Лидия в 1913 году скончалась от тифа. Однако основанные — благодаря, главным образом, энергии первой русской летчицы — мастерские продолжали, переведенные в Петроград, выпускать аэропланы. Немного — в начале войны по одному в месяц (учебные одноместные типа «Моран-Ж»), в 1916-м — по пяти. Надо полагать, дело бы расширилось, будь в живых Лидия Виссарионовна, ее смерть, похоже, подавила Владимира Викторовича. Как бы то ни было, он пытался проводить опыты над монопланом собственной конструкции. Потом — Февральская революция. Во дворе мастерских владелец собирает рабочих. Писатель-историк, у которого я прочел об этом эпизоде, трактует его однозначно: дескать, кровосос-хозяйчик разразился вынужденно либеральной речью, а вскорости удрал в Америку. Прямолинеен такой подход к личности Владимира Слюсаренко, выходца все-таки из генеральской семьи, хотя и добившегося положения своими руками, мозолистыми от штурвала самолета, напильника, гаечного ключа. Короче, его долго мотало по свету, пока не занесло в Австралию, где он создал небольшое предприятие, возвел на собственные средства православный храм и окончил дни в приюте для престарелых.
О судьбе фон Лерхе уже сказано. Следов Бориса Масленникова найти не удалось.
Справедливо ли не обратиться к жизненным маршрутам других первопроходцев? В первую очередь — братьев Ефимовых. Михаил Никифорович еще до войны задался целью сконструировать аэроплан совсем особого, нового типа, который позже охарактеризует так: «двухмоторный (!) блиндированный истребитель». И снова препоны. Со стороны того, с кем мы преотлично знакомы. На одном из ходатайств Ефимова великий князь Александр Михайлович начертал хамскую резолюцию: «…Снестись с заведующим Чесменской богадельней на предмет зачисления уважаемого Мих. Ник. непременным членом заведения». Михаил Ефимов воевал. Вскоре после Октябрьской революции, в декабре 1917-го, назначен флагманским летчиком гидроавиации Черноморского флота. В августе 1919-го, когда белые в последний раз захватили Одессу, Ефимов-старший был схвачен и расстрелян.
Ефимов-младший, Тимофей, опять же до войны, произвел первые опыты ночных полетов, стал зачинателем этого рода боевой работы. Похоже (других данных у меня, во всяком случае, нет), в строй красных вслед за братом не встал, но и на другую сторону не перешел. Через три месяца после гибели Михаила умер — там же, в Одессе — от тифа ли, холеры или просто голода, неизвестно: в доме нашли окоченевший труп.
Катаклизмы грозных лет проложили непреодолимую черту разлома между многими прежними соратниками. Двое первых гатчинцев — Георгий Горшков и Евгений Руднев. Горшков воевал на «Муромцах», Руднев был асом-истребителем. Горшков сражался против Деникина, с 1919 года член Высшей военной инспекции РККА по воздушному флоту. Руднев… Из книги М.М. Громова «Через всю жизнь»: «В первые дни революции начальник школы Руднев и офицерская элита не пожелали быть красными летчиками и предпочли незаметно исчезнуть с аэродрома». Лауреат Ленинской премии В.И. Лавренец (да не посетует он на меня за выспренность, если я назову его добрым гением этой книги) сообщил, что в тридцатые годы Руднев в Париже работал шофером такси. Судя по тому, что в 1917-м он был капитаном, а на могильной плите русского кладбища звание «полковник», очевидно, летал — у Деникина, Врангеля или Колчака…
«Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие». Слова Антона Ивановича Деникина. Того самого. Сказаны в 1921 году.
Большевики-то (во всяком случае, наиболее дальновидные) стремились укрепить Красную Армию умелыми специалистами, привлечь их в ее ряды. Но тем требовалось время, чтобы разобраться в водовороте событий, определить свое отношение к ним. А времени не было. Солдатам осточертела империалистическая бойня. Все, у кого звездочки на погонах, казались мясниками, гнавшими на бойню. Раз так — срывай звездочки. Раз так — к стенке. Как принято было говорить, «в штаб Духонина». Потому — и не по идейным соображениям — многие бежали на юг к Корнилову. Многие, не имевшие, а следовательно, не стремившиеся защищать имения и капиталы. Только-только заработавшие эти звездочки бывшие учителя, мелкие служащие, даже крестьяне. В первом Кубанском походе из четырех с лишним тысяч штыков, которые насчитывала Добрармия, изрядную часть несли на плече или наперевес и прапоры военного времени, и мальчишки-юнкера, даже гимназисты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: