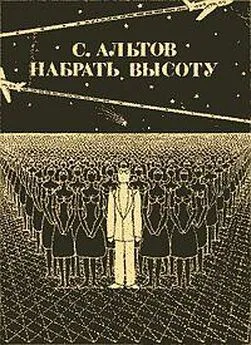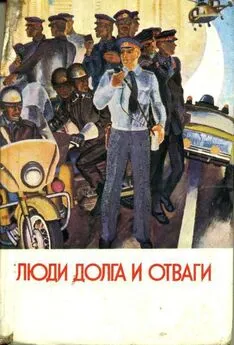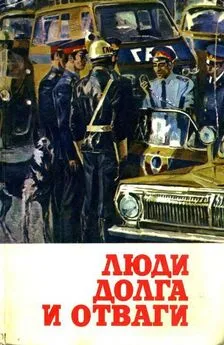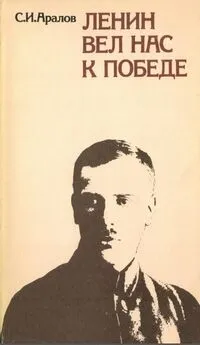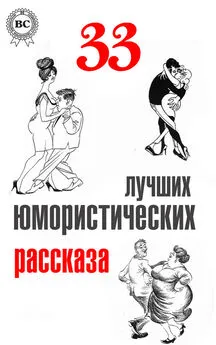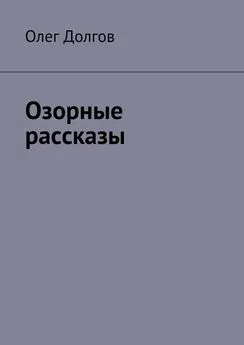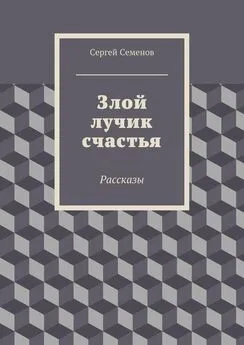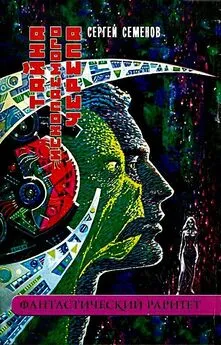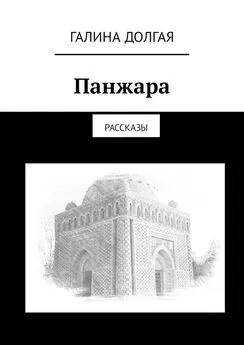Семен Аралов - Долг и отвага [рассказы о дипкурьерах]
- Название:Долг и отвага [рассказы о дипкурьерах]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-250-00052-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Аралов - Долг и отвага [рассказы о дипкурьерах] краткое содержание
В книге рассказано о первых советских дипломатических курьерах, в тяжелейших условиях выполнявших свою ответственную миссию. В течение ряда лет после установления Советской власти многие буржуазные государства не признавали официального статуса «красных дипкурьеров», подвергали их преследованиям, бросали в тюрьмы, натравливали на них бандитов. Широко известен подвиг Теодора Нетте. Роль связного с первой советской миссией в США успешно осуществлял Б. С. Шапик. Героически действовали в самых сложных условиях А. А. Богун, А. Х. Баратов, В. А. Урасов и другие. Довелось выполнять функции дипкурьера известному венгерскому писателю-революционеру Мате Залка. Большой интерес представляет рассказ о дипкурьерской службе во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Книга рассчитана на массового читателя.
Долг и отвага [рассказы о дипкурьерах] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сперва путники ехали по Кабульской долине посольским автомобилем, а дальше — верхом. Иногда присоединялись к какому-нибудь каравану, поднимавшему к небу горячую пыль, иногда ехали вдвоем.
На голове Аршака белела чалма. Лариса Михайловна иронизировала над такой экипировкой, но Баратов повторял: «Так надо, Лариса Михайловна. Сама скоро увидишь».
Действительно, в караван-сараях их принимали с таким же гостеприимством, как и своих.
Время от времени с гор, где кочевали племена, раздавались одинокие выстрелы: так выражали отношение к английским колонизаторам. Англичане или большевики — откуда им знать, тревожился Аршак. Зорко шарил черными глазами по голым суровым складкам Гиндукуша. Рейснер же только посмеивалась. Она-то могла спокойно смотреть куда угодно: на сухие, жесткие придорожные травы, гранитные и мраморные глыбы, изумрудные травяные дорожки по берегам ручьев. Заметив яркий цветок, она искренне удивлялась сперва его красоте, а потом тому, что Баратов не замечает такого сокровища…
Солнце жгло, как раскаленная сковородка. Лариса Рейснер закрыла лицо марлей. «Вот и я чадру опустила, — шутила она. — Что делать: иначе сгоришь!»
Обоим стало весело.
Наконец Баратов и Рейснер въезжают во двор рабата через нишу в толстой глиняной стене — такие стены ограждают прямоугольником каждое дорожное пристанище. С внутренней стороны стен — арочные кельи. В потолке дыра, через которую выходит дым костра. Во всю длину кельи — метров пять-шесть — стойла для верблюдов, лошадей, мулов. Люди, животные — все под одной кровлей. На земляной пол брошены кошмы: их специфический запах отгоняет скорпионов, пауков, верблюжьих клопов. Войдя в полутемную прохладную келью рабата, Рейснер устало опустилась на землю, прислонилась спиной к стене. Сидела неподвижно, молча, закрыв глаза.
Аршак хлопотал с лошадьми, поклажей, едой. Протянул своей спутнице пиалу с кумысом.
— Лучший напиток в дороге. Сил прибавляет…
Замучил меня этот Гиндукуш. Обрывы, адские подъемы, сумасшедшие спуски. И все время не хватает воздуха.
Рейснер жадно, не отрываясь, выпила кумыс. Вновь закрыла глаза, отдыхая. Позже достала книгу из сумки, притороченной к седлу. В сумке было полно книг русских немецких, английских.
— Эх, мне бы научиться книжки читать на разных языках, — мечтает Аршак.
— Научишься. Не все ж тебе в седле сидеть. Пойдешь учиться.
Позже студент Института востоковедения вспоминал: права была Лариса Михайловна.
…Тропа тянется бесконечно, как восточная песня. И кажется, рассказывает она о нашествиях кочевников, о тех, кто вытоптал эту тропу за сотни и сотни лет, о том, будто Александр Македонский, оказавшись в непроходимом месте, взмахнул мечом, рассек скалу надвое, открыв путь своим полкам… Сколько видела, сколько знает эта тропа, по обочинам которой белеют человеческие и лошадиные кости…
Лариса Рейснер и Баратов едут по тропе, беседуют. О чем? Об эмире, о кочующих племенах, об эмирше и ее служанках с колокольцами у щиколоток (о восточная недоверчивость!), об англичанах, о вершинах Гиндукуша в белых снежных чалмах… И, конечно, о том, что скоро, очень скоро прогремит по планете мировая революция, сметет эксплуататоров, освободит угнетенных…
Лариса Михайловна, покачиваясь в седле, говорила:
— Мировая революция разбудит и Восток, который пока спит. Как в этих стихах:
Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин.
И склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран…
Рейснер умолкает, слушая эхо ущелья.
— Сама сочинила? — уважительно спрашивает Баратов.
— Эх, Аршак, — качает головой Лариса Михайловна. — Если бы я написала такие стихи, можно было бы спокойно умереть… Это стихи Лермонтова. Слышал о нем?
Вдали показался желтый глиняный прямоугольник рабата — последний привал перед советской границей.
Об этом привале Аршак Баратов так рассказывал:
— Спрыгнул я с коня, помог Ларисе Михайловне сойти на землю. Задал лошадям корму. Сами поужинали. Чувствую — устал здорово. Почему? Потому что все ночи не спал как надо. Один глаз спит, второй начеку. Удивляешься? Не надо удивляться! Ведь мне что поручено? Диппочта — раз, Лариса Михайловна — два. Что ценней, даже не знаю, — улыбался Баратов.
Особо трудной была одна поездка в Кабул.
Май 1923-го. Тревожная весна. Британское правительство через министра иностранных дел Керзона предъявило молодой Советской республике ультиматум, в котором, между прочим, требовало отозвать из Персии и Афганистана советских полномочных представителей.
Дипкурьера Баратова срочно вызвали к наркому иностранных дел.
— Дело не терпит — нужно опять ехать в Кабул, — сказал Г. В. Чичерин. — Доставить важное письмо.
Двадцать пять дней было отпущено дипкурьеру.
— Двадцать пять дней… — думал Аршак. — Из Москвы до Мазара за этот срок можно добраться, а как до Кабула? Уложусь ли…
В то время обычная поездка из Москвы в Кабул длилась около двух месяцев.
Главное — постараться не терять ни минуты времени. В путь!
У Баратова было предписание начальнику ташкентского вокзала: немедленно посадить дипкурьера в первый же поезд, идущий в сторону крепости Кушка. Под предписанием стояла подпись: Ф. Дзержинский. (Дзержинский был в то время председателем ВЧК и народным комиссаром путей сообщения.) В Мерве ожидало огорчение: поезд на Кушку ушел вчера. Следующий будет очень нескоро.
Подняв на ноги все местное начальство, Баратов добился, чтобы ему дали маневровый паровоз. Поехали! В Кушке Аршаку сказали:
— Уже вечер. Заночуй у нас. Стоит ли рисковать — мало ли что может в темноте случиться?
— Нет, друзья-товарищи, надо ехать сейчас. Меня афганцы знают…
Баратов не ошибся: на афганской стороне, в Чеминабете, его встретили как старого знакомого. Купил у начальника поста лошадь, помчался в Герат. Всю ночь, все утро и половину дня был «приварен к седлу». В Герате сразу же — в советское консульство.
И снова скачка на переменных лошадях. «Выжав» все, что можно, из лошади, Баратов оставлял ее первому попавшемуся афганцу — чаще всего хозяину рабата, — покупал новую. Даже на перевал, сколько было возможно, поднимался на лошади. И когда чувствовал, что лошадь начинает уставать, Аршак спешивался, шел рядом, поглаживая мокрую шею животного.
— Не сердись на меня. Так надо. Понимаешь?
Лошадь устало потряхивала головой. Будто понимала…
Еще один рабат — Сари-Пул. Пока готовили лошадь, Баратов мог полчаса — час отдохнуть. Вошел в отведенное ему помещение с пологом вместо двери. На земляном полу разостланы бараньи шкуры. В центре тлеет костер. Дым уходит к потолку, в круглое отверстие. Хозяин принес плов, несколько лепешек и кувшин кумыса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Семен Аралов - Долг и отвага [рассказы о дипкурьерах]](/books/399214/semen-aralov-dolg-i-otvaga-rasskazy-o-dipkurerah.webp)