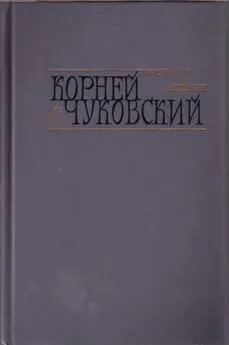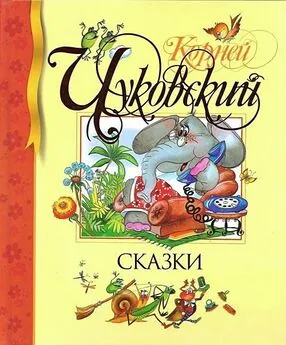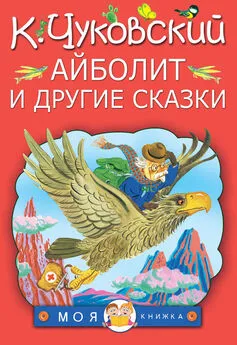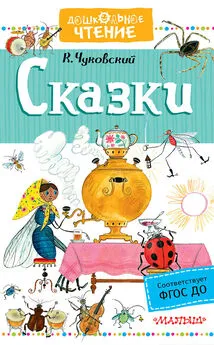Корней Чуковский - Сказки. От двух до пяти. Живой как жизнь
- Название:Сказки. От двух до пяти. Живой как жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Корней Чуковский - Сказки. От двух до пяти. Живой как жизнь краткое содержание
Корней Чуковский работал во многих жанрах. Начинал он в 1901 году как критик. В разные годы выступал в печати как историк литературы, литературовед, мемуарист, переводчик, теоретик художественного перевода, лингвист, детский писатель, исследователь детской психологии. В предлагаемый двухтомник вошли его сказки для детей, статьи и книги о детях (том 1) и его критические работы (том 2).
Сказки. От двух до пяти. Живой как жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
То же самое и с «Детством» Толстого. Дети так любят читать про детей! Но составители школьной программы не сделали им поблажки и тут.
Вообще, если составители программы нарочно стремились представить ребятам художественную нашу словесность в самом невкусном, неудобоваримом и непривлекательном виде, они достигли своей цели блистательно. В достижении этой цели им сильно помогают учебники, где равнодушные люди тускло и черство «прорабатывают» гениальных художников слова.
Скажут: учебники должны изощрять классовую зоркость ребенка. Но неужели нельзя сочетать самый строгий социальный анализ с любовным и живым восприятием гениального творчества классиков? А наши фребели стыдятся эстетики, словно все еще сомневаются, нужна ли она детям пролетариев. Развитие эстетического вкуса детей — об этом наркомпросовские программы ни слова. Оттого и происходит, что, например, о Шевченко детям говорят исключительно как о революционном бойце, а вся изумительная красота его творчества проходит мимо детей. Так и печатают в школьных учебниках:
«Ценность Шевченко для нашего времени — в его революционных стихах и правдивом показе (!) тяжести крепостной эпохи» [185] См. тот же учебник, с. 122.
.
И точка. Ни в чем другом они ценности Шевченко не видят. То обстоятельство, что он был гениальный поэт, их не интересует нисколько. Всю свою статью (целых десять страниц) посвящают они политическим убеждениям Шевченко и лишь четыре строки — «большой художественной высоте» его творчества. Но эти строки — канцелярская отписка. Никакого конкретного содержания в них нет. Удивительно ли, что дети посмотрели на меня так угрюмо и хмуро, когда я спросил у них, нравится ли им его творчество (тем более что его творчество представлено поэмою «Сон», которая в переводе потеряла девяносто процентов всей своей поэтической силы).
И случай с Шевченко далеко не единственный. Мы все еще боимся говорить во весь голос о художественной форме литературных творений и пробавляемся одной «социологией». Недавно в Детиздате вышла великолепная книга: крыловские «Басни». Любовное оформление книги, множество отличных иллюстраций, научно проверенный текст, небывалой красоты переплет, являющийся сам по себе произведением большого искусства, — все это делает честь Детиздату.
В этом превосходном издании самые басни прозвучали по-новому. Как-то особенно ощущаешь всю гениальную динамику крыловских стихов. Каждая фраза — мотор в несколько тысяч лошадиных сил! Чтобы довести свой стих до такого лаконизма до такой чарующей четкости, до такой монументальной простоты и художественности, — сколько дней и ночей должен был этот недосягаемый мастер шлифовать и оттачивать каждое слово, как на токарном станке! Вот у кого наши школьники, да и наши писатели, должны учиться работе над словом! И, издавая его книгу, мы должны и детей заразить своим восторгом перед теми огромными словесными ценностями, которые созданы таким упорным трудом. Но, вот вступительные строки к этой книге. О Крылове как о мастере слова, как о величайшем из поэтов — ни звука. То есть имеется несколко слов, самые общие фразы, без всякой конкретности. Все предисловие, от первой строки до последней, доказывает единственный тезис: что Крылов был пройдоха, ренегат, подлипало, лакей, что даже обжорству он предавался из хитрости, даже неряшлив он был из угодничества.
Статья написана очень талантливо, остроумно, свежо, но где же здесь тот гениальный Крылов, у которого должны мы учиться, которому должны мы подражать? Где Крылов, как писатель, как мастер, как создатель литературных шедевров? Как же вы надеетесь поднять словесную культуру наших школьников, повысить их литературные вкусы, если вы будете мерзавить писателей, которыми они должны восхищаться?
И это не случайность, а система.
Недавно пришлось мне присутствовать в одной из московских школ на уроке, посвященном Валерию Брюсову. Я знал Валерия Брюсова лично, и мне, признаться, было очень приятно, что вот нынешние школьники изучают его. «Как обрадовался бы он сам, — думал я, — как гордился бы, если бы узнал, что его стихи стали достоянием школы». Но радость моя скоро потухла, потому что учитель говорил о Валерии Брюсове не как одном из замечательных русских поэтов, а так, как говорят о конокраде. Это даже не был суд над Валерием Брюсовым, это был расстрел без суда. Собственно, Брюсов нисколько не интересовал педагога, его интересовал символизм, — и Брюсов был нужен ему с единственной целью: чтобы продемонстрировать перед учащимися, какая это постыдная дрянь. Сплошная социологизация и ни одного грамма любви!
Не прошло получаса, как цель преподавателя была блестяще достигнута: он угробил не только символизм, но заодно и Валерия Брюсова. Ученики глядели на него с удивлением: зачем же изучать этого самого Брюсова, если он был такое ничтожество!
Учителя винить невозможно: такова программа Наркомпроса. Ее гораздо больше занимают всевозможные «измы», нежели подлинное творчество того или иного писателя. О том, что поэзия может доставлять радость, программа до сих пор не додумалась. Она вообще не желает внушать детям любовь к литературе: пусть зубрят без всяких эмоций.
И зубрят. Даже Пушкина зубрят. С результатами этой зубрежки может познакомиться всякий, кто захочет присутствовать на проверочных испытаниях по литературе — ну, хотя бы в седьмом классе при переходе в восьмой. Войдите, сядьте на скамью и послушайте.
— Что хотел сказать Чехов своим «Человеком в футляре?»
— Тра та тата тата та!
— Чем отличаются басни Крылова от басен Демьяна Бедного?
— Тра та тата тата та!
Ответы проворные, бравые, звонкие, но совершенно бездушные. Школяры доведены до такой дрессировки, что, даже не дослушав вопроса, лихо барабанят ответ.
Учитель чувствует себя триумфатором и с самодовольною скромностью ожидает похвал. Но я ухожу огорченный. Литература не таблица умножения: ее нужно не зубрить, а любить. Сделать из нее окрошку разрозненных фактов, имен и заглавий — не значит ли это навсегда отвратить от нее детское сердце?
Как же вы требуете от Нины Чичильевой, чтоб она возлюбила классиков — Тютчева, Некрасова, Лермонтова — и возненавидела доставшуюся ей по наследству пошлятину, если школа преподносит ей всех этих классиков в виде какого-то безвкусного месива формул, имен и фактов, которые следует вызубрить, ибо они совершенно чужды внутренней жизни детей.
Школьники догоняют меня с веселыми лицами: большинство из них получило «отлично». Мы проходим мимо Инженерного замка, и разговор у нас, естественно, заходит о Павле I.
— Вы, конечно, знаете, отчего он умер?
Мнутся, потупляют глаза. Но одна очень серьезная девочка (лет пятнадцати, а может быть, и старше) произносит полновесно и четко:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: