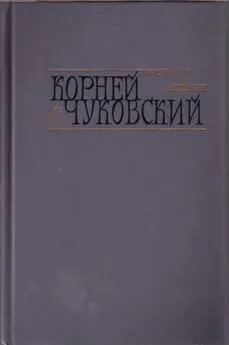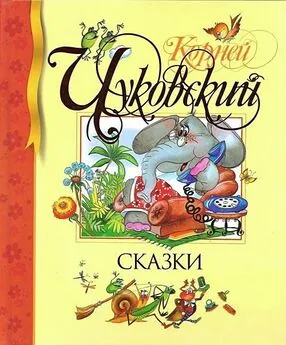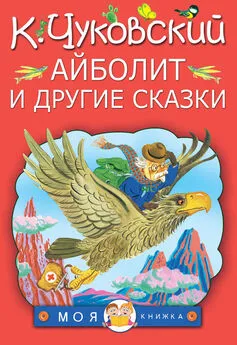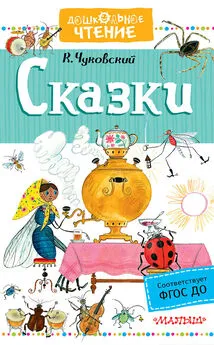Корней Чуковский - Сказки. От двух до пяти. Живой как жизнь
- Название:Сказки. От двух до пяти. Живой как жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Корней Чуковский - Сказки. От двух до пяти. Живой как жизнь краткое содержание
Корней Чуковский работал во многих жанрах. Начинал он в 1901 году как критик. В разные годы выступал в печати как историк литературы, литературовед, мемуарист, переводчик, теоретик художественного перевода, лингвист, детский писатель, исследователь детской психологии. В предлагаемый двухтомник вошли его сказки для детей, статьи и книги о детях (том 1) и его критические работы (том 2).
Сказки. От двух до пяти. Живой как жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тут великий урок для всех нас. В этой поучительной судьбе «Горбунка» был явно для всех поставлен знак равенства между детьми и народом. Детское и народное оказались синонимами.
И подобных случаев в истории нашей литературы немало. Именно в силу своей народности многие подлинно народные книги не раз преображались в книги детские. Судьба «Горбунка» повторяет судьбу сказок Пушкина. Пушкин писал их для взрослых тоже в порядке усвоения и разработки фольклора. Взрослые отнеслись к ним с высокомерной брезгливостью, видя в них падение Пушкина, и даже Баратынский сердился — как смеет великий поэт отдавать свои силы такому «низкопробному» жанру. А дети, к которым и не думал обращаться поэт, когда писал своего «Салтана», «Золотого петушка» и «Царевну», ввели их в свой духовный обиход и лишний раз доказали, что народная поэзия в высших своих достижениях часто бывает поэзией детской.
Все сказки Пушкина, все до одной, были сказки крестьянские и по словарю и по дикции.
И если мы вспомним, что басни Крылова тоже возникли как литература для взрослых и тоже с непревзойденным совершенством воссоздали народную речь, у нас будет полное право сказать, что русский народ (то есть русский крестьянин, потому что народ в ту пору был почти сплошь деревенским) продиктовал писателям самые лучшие детские книги. Их устами великий русский народ утверждал свою веру в вечную победу добра, милосердия, правды над криводушием, жестокостью, ложью. Таковы же детские стихотворения Некрасова, детские книги Льва Толстого, Ушинского, насквозь пропитанные фольклором.
Параллельно с этими народными книгами в XIX веке возникла ненародная, антинародная детская литература, начиная с ишимовской «Звездочки» и кончая «Задушевным словом» Маврикия Вольфа. Вполне понятна литературная немощь этой оторванной от народа словесности. Понятно, почему от нее не осталось теперь ничего или почти ничего. К концу века с детской литературой случилось то самое, что когда-то случилось с Ершовым. Чуть она оторвалась от народной эстетики, народного юмора, народных идеалов и вкусов, она тотчас же стала бесплодной.
Тот бурный ренессанс «большой литературы для маленьких», который начался у нас лет сорок назад, ознаменован обращением детской поэзии к фольклору. В критике давно было отмечено, что детские стихи Маяковского «обильны фольклорными реминисценциями» и что, например, начало «Сказки о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» — типичная народная считалка, приближающаяся по своим интонациям к традиционным числовкам:
Жили-были
Сима с Петей.
Сима с Петей
были дети.
Пете 5,
а Симе 7
И 12 вместе всем. [163] М.Китайник, Детский фольклор и детская литература. Журнал «Детская литература», 1940, № 5, стр. 12–15.
Читаешь эти строки и невольно делаешь те самые жесты, какие делает перед началом игры всякий ребенок, произносящий считалку среди пяти или шести своих сверстников.
Пристальное изучение «алмазной» речи народа проявилось не только в повестях и романах А.Н.Толстого, но и в тех «Русских народных сказках», тексты которых он с таким тонким искусством сконструировал из разных вариантов фольклора. [164] А.Толстой, К молодым писателям, «Новый мир», 1930, № 2.
Или вспомним, например, «Петрушку» Маршака, где так искусно использованы широкие и емкие формы раешного стиля, его же «Кошкин дом» и «Терем-теремок», творчески воссоздающие стиль устной народной поэзии и в то же время далекие от внешних стилизаторских приемов. И в других жанрах, казалось бы очень далеких от фольклорной тематики, у него то и дело звучат отголоски народной поэтической речи; например, в сказке «Вчера и сегодня»:
Подходили к речке близко,
Речке кланялися низко:
— Здравствуй, речка, наша мать,
Дай водицы нам набрать!..
и т. д.
Беседуя в печати о поэзии, Маршак призывал молодежь к истокам народного творчества. [165] С.Маршак, О хороших и плохих рифмах. Сб. «Воспитание словом», М. 1961, стр. 102–111.
И конечно, в своих переводах он не мог бы так верно передать дух английских детских народных песенок, если бы не ориентировался на звучание и стиль русского фольклора для детей.
Об этой же органической связи нашей детской поэзии с фольклором говорит и Агния Барто: «Ведь у детской поэзии, безусловно, есть свои законы. Она, например, особенно широко пользуется изобразительными средствами народной поэзии. В лучших стихах для детей мы находим гиперболу, повторы, звукоподражание, меткую игру слов, считалку, загадку». [166] А.Барто, О стихах для детей, «Литературная газета», 1958, № 2.
И разве лучшие из басен Сергея Михалкова не утратили бы всей своей поэтической силы, если бы в их упругих строках не слышалось того же хлесткого, чуть озорного народного юмора, который так полно отразился в фольклорных поговорках, дразнилках, потешках, небывальщинах, пословицах, сказках? Да и сама эта упругая форма, такая лаконичная и четкая, — разве не создавалась она для поэта все той же народной традицией?
Вообще в произведениях Михалкова часто слышится то близкое, то отдаленное эхо фольклора. Так, например, и сюжет, и самая форма его замечательного по своей словесной чеканке стихотворения «Как старик корову продавал» подсказаны ему устной народной поэзией, равно как и старинная притча об упрямых баранах, встретившихся на узком мосту:
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
И хотя в стихотворении «А у вас?» фабула городская, московская, уже первые его строки заранее подготовляют нас к тому сплаву народного стиля с детским, которым и определяется стиль Михалкова.
Как верно указывает Сергей Баруздин, «близость стихов С. Михалкова к народной поэзии подтверждается тем, что многие их строки вошли в обиходный разговорный язык: „Из районных великанов самый главный великан“, „Мы с приятелем вдвоем замечательно живем“, „Мамы разные нужны, мамы всякие важны“ и т. д.»
«В стихотворении „Красная Армия“, — говорит тот же критик, — поэт использует характерный для народной песни прием параллелизма:
Мы летаем высоко,
Мы летаем низко,
Мы летаем далеко,
Мы летаем близко». [167] Сергей Баруздин, О большой школе и одном из ее воспитанников (Заметки о работе С.Михалкова в поэзии для детей). Сборник «Детская литература», 1959, Детгиз, М. 1959, стр. 97.
И чего стоили бы лучшие драмы Евгения Шварца, если бы он не опирался на русский и всемирный фольклор, творчески преобразуя его.
Могущество народной традиции мне пришлось испытать и на собственном опыте. Когда я приступал к сочинению детских стихов, я долго не мог отыскать для них живую, органическую форму. Тогдашняя поэзия, которую предлагали ребятам всех возрастов — «Путеводные огоньки», «Светлячки», «Родники», «Задушевные слова» и т. д., - отличалась самой оголтелой бесстильностью (вследствие полного распада ее идейных основ). И лишь мало-помалу, после многих неудач и шатаний, я пришел к убеждению, что единственным компасом на этом пути для всех писателей — и сильных и слабых — является народная поэзия (см., например, «Муху-Цокотуху», «Краденое солнце», «Федорино горе» и др.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: