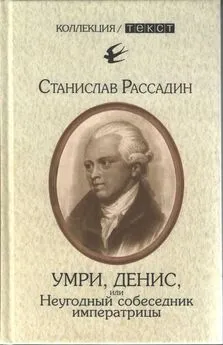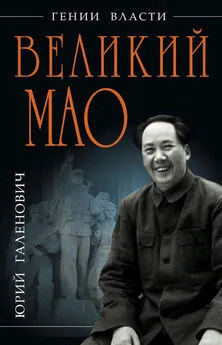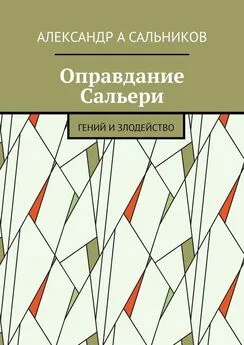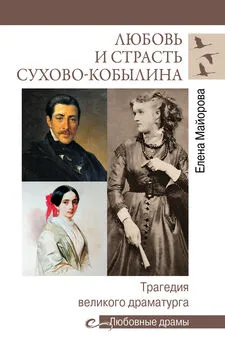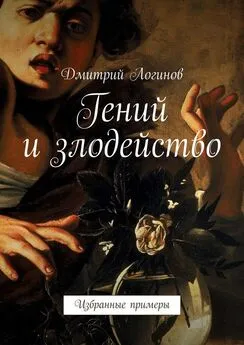Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина
- Название:Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1989
- ISBN:5-212-00118-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина краткое содержание
В книге Ст. Рассадина — долгая, полная драматических событий жизнь. В этой жизни — и мучительное дело по обвинению в убийстве. Семь лет находился A. B. Сухово-Кобылин под следствием и судом, дважды подвергался тюремному заключению — светская молва приписывала ему это преступление. Дело надломило жизнь драматурга, непосредственно отразилось на его творчестве, перелилось в него. Биография писателя как бы сама по себе стала художественным произведением, и Ст. Рассадин это хорошо почувствовал. Перед нами не житейская биография, а жизнь, преобразующаяся в творчество.
Для широкого круга читателей.
Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Извольте-с, — вздыхает купец и протягивает еще одну бумажку.
— Послушай, Флегонт Егорыч, ты меня знаешь?
— Помилуйте!
— Ну — то-то; я, братец, без хитростей; — меньше ста рублей ни копейки.
— Обижаете, Антиох Елпидифорыч.
— Какая же обида?
— Обижаете.
— Ну веришь ли ты богу?.. Веришь ли?
— Верю.
— Ну, не могу.
Прямого авторского указания насчет Оха нету, но надо так думать, что для вящей убедительности перекрестился.
— За что такая обида?
Э, Попугайчиков, не обманешь. Это, братец, у тебя так, инерция выжидательного купеческого тугодумия, а рука-то, небось, уже готова потянуться к карману, и все красноречие Оха — только заключительный аккорд партии, сыгранной — вспомним Ивана Сидорова и Тарелкина — «как на клавикордах».
— Какая же обида? Обиды нет. Обида — произвол; а тут какой же черт произвол, когда моя необходимость… Ну не могу.
— Быть, стало, по-вашему.
Опять — ритуально — вздохнув, Попугайчиков вручает сотенную и переходит, ни о чем не спрашивая (опыт, опыт!), к расплюевскому отпрыску, писарю Ванечке:
— Ну ты, гнида, где расписаться?
Отводит, что ли, душу на бессловесном и безответном? Как бы не так: и ему, не позабывши обозвать еще и «крапивным семенем», сует какую-то мелочь. Просто — как те откупщики, по размерам взяток которых, даваемых ими губернскому чиновничеству, начальство с математической точностью оценивало истинное значение этих чиновников, так и Флегонт Егорыч тоже приценивается и оценивает: и непрошедшую силу Оха с Расплюевым, и ничтожный, однако реальный Ванечкин масштаб.
Он — единственное полусимпатичное лицо «Смерти Тарелкина», ибо сохраняет свое лукавое достоинство. Даже на допросе и при вымогательстве. Он не хорохорится, не трясется от страха; он просто видит: податься — покуда — некуда, не отстанут. Он трезво соразмеряет желаемое с действительным; не прет на рожон, но и не переплачивает.
Флегонт Егорыч хорошо понимает жизнь, потому что разместился в ней — хоть и с неудобствами, во временность которых верит, — прочно.
А Чванкин? Как он, недавний гордец, воротясь из темной, заговорит с тем же Ванечкой?
— Миленький, дай мне перышко — надо будет ответики написать…
И Ванечка, шельма, даже слова не проронит в ответ, — не то что было с купцом, которому и он понимал цену, пусть определял ее размерами даяния:
— Вот-с вам, Флегонт Егорыч, — вот и перышко — мы вам, сударь, в лучшем виде, Флегонт Егорыч-с! Сделайте милость… Флегонт Егорыч…
Чванкин лебезит перед Ванечкой — перед Ванечкой! — как Ванечка лебезил перед Попугайчиковым.
Конечно, виной тому переворачивающая душу сила темной, ареста, тюрьмы (в спектакле Алексея Дикого Чванкин, ввергнутый в узилище в качестве жгучего брюнета, выходил оттуда тихим и бледным блондином), однако способность этак мгновенно вылинять, на презрительно-горький взгляд Сухово-Кобылина, есть позор для человека. Тем более — дворянина.
Сообразительный Попугайчиков устойчиво держался реальности, не заносясь чересчур и не падая в бездну. Чванкин круто берет то слишком ввысь, то слишком уж низко. Низменно.
Когда в завершение Ох потребует у него подписку о невыезде, в помещике будто бы вновь мятежно всколыхнется воспоминание — нет, теперь уже не о богатстве, чем кичиться действительно стыдно, а, бери выше, о неприкосновенной дворянской чести. О сословном культе ее. О том, что испокон веку почиталось отличающим истинного дворянина от всех прочих, — как говорил герой пушкинских «Сцен из рыцарских времен», проклинавший свое мещанское состояние и пылко завидовавший рыцарю: «Он идет прямо и гордо, он скажет слово, ему верят…»
Черта с два!
«Чванкин… К чему же подписку; что за подписка; я и так из города никуда не поеду.
Ох. Так уж форма.
Чванкин (тверже). Я вам говорю, что не поеду, так вы можете верить. ( Встает. ) Кажется, между благородными людьми и благородного слова довольно. (Берет шляпу и хочет идти.)
Ох. Нельзя-с.
Чванкин. Однако, черт возьми, когда я говорю, так довольно!.. (Скоро идет к дверям.)
Ох (давая знак мушкетерам).
Ей, Качала!..
(Качала и Шатала подхват ывают Чванкина под руки.)
Чванкин. Что это?.. Стойте!.. опять в темную?!.
Ох. Да-с. Мы уж попросим опять. (Мушкатерам.) Несите в темную.
(Чванкина несут в коридор.)
Чванкин (болтая ногами). Ну так я подписку, — я лучше подписку — стойте!.. окаянные!!.
(Его вносят в коридор.)
Я даю подписку!!. Две подписки!!.
Ох (мушкатерам). Качала!.. Назад!..
Чванкин (вырываясь из их рук). Я с удовольствием — я с большим, черт возьми, удовольствием… вам подписку дам… я хоть три подписки дам».
Смешно? Конечно. Жаль? Вот уж нет. И — противно. Ломают-то, разумеется, какого-никакого, а человека, но уж больно просто сломился.
Три подписки, да еще с удовольствием, да впридачу с большим — вот она, чрезмерность, говорящая о неустойчивости характера и положения. О том, что сломавшийся так легко уже был надломлен — и давненько, так что место надлома зажило. Собственно, теперь его и ломать не нужно, — приложи небольшое усилие, и он сравнительно безболезненно сложится пополам.
У Чванкина две резких крайности, чванство и униженность (то есть аналоги расплюевских хамства и холуйства, только Иван Антонович из холуев оборачивался в хама, а тут направление перемены иное, обратное). Две крайности — и нет меры, нет середины, нет равновесия. Этот помещик — как Расплюев! — беспочвен. Уже беспочвен; уже, а не еще, что может служить обнадеживающим утешением для «маленького человека», особенно если он жизнеспособен подобно Расплюеву. У Чванкина же будущего точно нет.
Сухово-Кобылин, умеющий быть безыллюзорно-жестоким по отношению к очень многому и многим, здесь решился представить в язвительнейшей карикатуре свое собственное сословие — уходящее, умирающее, то, судьба которого была близка ему до сердечной дрожи и до впадения в глобальный, вернее сказать, всероссийский пессимизм [28]. Такой, казалось, простительной слабостью стало бы для него — изобразить владельца вырубаемых вишневых садов и отнимаемого убежища Монрепо с ностальгической, идеализирующей грустью; нет, не возникло такого соблазна. А ежели и возник, то был преодолен беспощадно и саркастически, — для чего был потребен особо острый ум, особая сила духа, особое мужество художника, который сам жил под знаком исторического конца, не сдаваясь и не ломаясь, но отчетливо видя и пристально наблюдая этот конец.
Есть письмо, обращенное к знакомому литератору, которому привелось сказать о нем нечастое доброе слово, и написанное уже близко к концу века — и его собственного, жизненного, и всего девятнадцатого столетия. Письмо во всех отношениях, включая стиль, замечательное, — некоторые его слова могут оказаться знакомыми, ибо встречались нам в качестве кратких цитат, но не рвать же из-за того столь законченного целого.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: