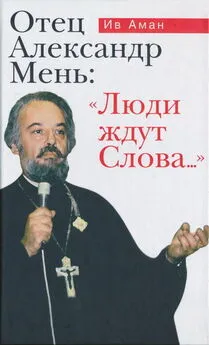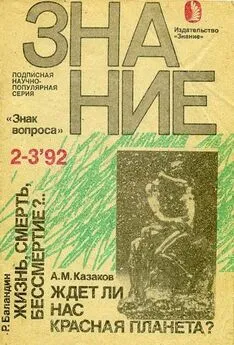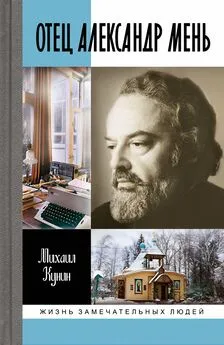Владимир Илюшенко - Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие
- Название:Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978–5-7380–0348–6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Илюшенко - Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие краткое содержание
Александр Мень — одна из самых ярких, самых значительных и трагических фигур XX столетия. Владимир Илюшенко, близко знавший о. Александра, создал живой портрет этого религиозного гения, посвятившего каждое мгновение своей жизни служению Богу и людям. В книге помещены также письма, другие не издававшиеся ранее тексты самого Александра Меня и около 50 его фотографий из архива автора.
Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эти примеры наводят нас на мысль о том, что творчество не есть нечто однозначно позитивное и, более того, что сфера духа, к которой творчество безусловно принадлежит, амбивалентна. Всё дело в том, на что направлено творчество. Само по себе оно этически нейтрально — как наука, как техника, как культура, базирующиеся на фундаменте творчества. Их можно развернуть в любую сторону — ив созидательную, и в разрушительную. Это зависит только от человека — образа и подобия Божия, от того, куда этот образ и подобие устремит свои способности. В притче о талантах говорится только о позитивных плодах человеческого творчества, потому что именно их Бог ждет от человека. Но мы знаем, что на нынешнем Древе познания добра и зла зреют и такие плоды, которые могут взорвать мир.
Итак, сфера духа амбивалентна. Мы знаем это чисто эмпирически. Мы знаем это из Писания. Если внимательно читать Библию, особенно Новый Завет, это становится совершенно очевидным. Вы помните, как апостолы, когда жители самарянского селения не приняли Христа, сказали: «Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не погублять души человеческие, а спасать» (Лк 9, 54–55).
Апостол Иоанн говорил о «духе истины и духе заблуждения», блаженный Августин — о двух «градах», о двух типах духовности. Отец Александр пишет: «Русские религиозные мыслители Владимир Соловьев, Михаил Тареев, Николай Бердяев, следуя Августину, подчеркивали, что существуют две формы религиозности: «открытая», свободная, человечная и «закрытая», мертвящая, унижающая человека. Вечным примером столкновения между ними является антитеза Евангелия и фарисейства.
Всё это я говорю потому, — продолжает отец Александр, — что не могу разделять взгляда, по которому любая религиозность служит этическому возрождению. Именно против этого взгляда выступал апостол Иоанн, предостерегая: «Не всякому духу верьте.» Он дал и критерий для различения духов, сказав: «Кто говорит: Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец». В этом апостол был верен Евангелию Христову и пророкам Ветхого Завета, которые провозглашали, что служение истине и Богу невозможно без верности нравственным заветам, данным человеку».
Так вот, творчество, культура, принадлежащие сфере духа, не есть нечто единое, целостное. Они поляризованы. Поляризованы именно потому, что сама сфера духа поляризована. О. Александр говорил, что духовное наследие, которое люди передают друг другу, развивается, и «творчество человечества постоянно идет в двух направлениях, поляризуясь позитивно и негативно. Полярности возрастают и все время противостоят друг другу. Нет прямой эволюции, а есть накопление сил добра и накопление сил зла. И творчество в этом процессе имеет огромное значение…»
Достоевский, как известно, говорил, что добро со злом борются, а поле битвы — сердце человека. Но человек — не пассивный объект этой борьбы, он в ней участвует, он делает выбор. И отец Александр, разделявший мысль Достоевского, отмечал, что «человек страдает не только от внешних ограничений, от внешних трудностей — он прежде всего испытывает давление изнутри, со стороны своих собственных несовершенств и страстей. Именно поэтому человек может изуродовать и любовь, и любые человеческие отношения, и может извратить смысл самых прекрасных слов и самых высоких представлений, таких, как «свобода», как «равенство», как «братство»». И он добавлял: «…не культура… и не наука сама, как таковая, повинны в том, что происходит, а дух человека».
Творчество, прежде всего художественное творчество, может возвышать человека, возвышать его дух, а может унижать его, может разжигать низменные страсти, вселять отчаянье. Искусство, достойное этого имени, восславляет свободу и призывает милость к падшим, укрепляет душу человека, вселяет веру в его высокое предназначение и в осмысленность жизни, созданной Творцом. Оно знает: «Есть ценностей незыблемая скала».
А есть такое искусство, скажем, постмодернизм, которое релятивирует все ценности и тем самым упраздняет их. При этом оно может быть виртуозным, а авторы людьми одаренными, как, например, Владимир Сорокин или Дмитрий Пригов.
Возьмем стихотворение Пригова:
Вот завелся во мне солитёр
День не кормишь — так воет капризно
А каков, проходимец, хитер —
То повыглянет сверху, то снизу
И клянет на чем свет тут стоит
А я что? — не нарочно ведь, сдуру
Поэтичная, в смысле, натура
Просто внутреживотных кормить
Забываю
Не слишком эстетично, я понимаю. Но это принцип: эпатаж входит в условия игры. Можно подумать, что автор продолжает традицию обэриутов, например, Николая Олейникова, но Олейников, когда он писал:
Маленькая рыбка,
Жареный карась,
Где твоя улыбка,
Что была вчерась? —
когда он это писал, он имел в виду себя и таких, как он, и действительно сгинул, как тот карась, был уничтожен в подвалах Лубянки. А Пригов играет со смыслами, уравнивая всё со всем. Ему все равно — что солитёр, как он его называет, что «милицанер», что ребенок. Всё уравнено в своем ничтожестве, всё сведено к своей материальности.
Вот еще одно стихотворение того же автора:
Куда ты, смелая малышка
Бежишь как милая зверюшка
Еще ведь малое немножко и —
Отвалится сначала ножка
Потом и следущая ножка
Потом отвалится головка
Потом, и говорить неловко —
Уже такое, что и кошка
Есть не станет
Это игра на понижение.
Сравните:
Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.
Мандельштам. Я полагаю, вы узнали.
Никакая виртуозность, никакой талант не помогают, когда человека сводят к его физиологическим отправлениям. В этом случае он уже ничем или почти ничем не отличается от животного. На самом деле, как говорил отец Александр, «хотя бы в подсознании у любого человека живет шкала ценностей, которая… определяется его верой». И еще: животному «чуждо понимание разницы между идеалом и реальностью. Человек же, сталкиваясь с бытием, познает в своем внутреннем опыте иной мировой порядок. Этот контраст рождает в нем стремление к истинной жизни. Человек запрограммирован на то, чтобы соединиться со своим Первоисточником. Но это не жесткая программа — для нас остается свобода выбора».
Отец Александр не говорил специально о постмодернизме, но он говорил об опасности того искусства, которое упраздняет духовную вертикаль, порождает «цветы зла». Культура — это интеллектуальная смелость и, одновременно, моральная ответственность, и даже более того — духовная ответственность. По крайней мере она призвана к этому, потому что одно нерасторжимо связано с другим. Я упомянул о постмодернизме потому, что моральная безответственность, к сожалению, свойственна самой культуре, и это симптом духовного неблагополучия. Есть в нашем искусстве вещи и похуже постмодернизма, например, сочинения Мамлеева и Лимонова. Когда отца Александра однажды спросили об этих авторах (а он их читал), он сказал: «…что‑то мне не понравилось всё это… Я не думаю, что это останется в истории литературы. Это плесень какая‑то».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: