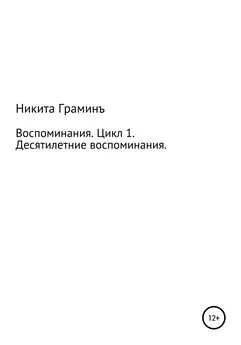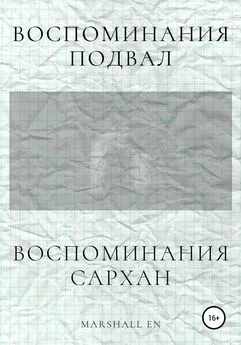Елеазар елетинский - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елеазар елетинский - Воспоминания краткое содержание
"Лет через десять после начала войны и лет через шесть после ее окончания я встретился с профессиональным военным корреспондентом Тихомировым. Мы спали на соседних нарах в исправительно-трудовом лагере "П". Лагерь был лесоповальный, с лесопильным заводом, но к моменту нашей встречи мы уже оба были "придурками", то есть служащими, а не рабочими, и жили в бараке для административно-технического персонала. В лагере, так же как и на фронте, идеализируется долагерное (довоенное) прошлое и во всяком случае усиливается желание утвердить себя за счет своего прошлого перед соседом. (...) Я с удивлением услышал, что самая его лучшая корреспонденция, причем о самом лучшем, то есть самом героическом бое относится не ко времени взятия Берлина и вообще нашего наступления во второй половине войны, а к борьбе за хутор Бескровный, недалеко от Славянска, весной 1942 года. Этот эпизод был описан Тихомировым как блестящая победа, в силу счастливого сопряжения тактической мысли и личной храбрости и в особенности благодаря удачной координации "родов войск", то есть танков и пехоты. # Странным образом, я не только слышал об этом бое, но и сам в нем участвовал в качестве офицера связи своего полка и соседней дивизии (я периодически перебегал из одной землянки в другую через сельскую улицу, вдоль которой стреляли немецкие танки). Впечатления мои от этого боя - самые тяжкие. В тот период мы стояли в жесткой обороне на Украине, но пытались время от времени организовать прорыв и затем развить наступление. Самая крупная из таких попыток - движение к Харькову на Лозовую - [Б]арвенково. Одна из небольших попыток того же рода, совершенно неудавшаяся, как раз началась борьбой за хутор Бескровный. Так вот, все что я знал и что особенно видел своими глазами, было прямо противоположно тому, что видел и знал Тихомиров. (...) Военный корреспондент Тихомиров и я, как герои фильма Куросавы "Расемон", предлагаем две версии того же события. А что же было на самом деле?..
В тбилисской пересыльной тюрьме были не только бывшие военнослужащие (их здесь называли вояки), но и местные уголовники (с двумя из них я в первый момент вступил в невольный конфликт и был поддержан другими вояками), и местные политические, некоторые задержались здесь, поближе к родным, с 1937-38 годов, охраняемые блатом. (...) Скученность в тюрьме была ужасная. В большие камеры набивали человек 150-200. Каждому отмеряли и отмечали мелом прямоугольник в считанные сантиметры длины и ширины, и на этих сантиметрах мы должны были существовать. Днем сидели на полу, кое-как поджав ноги, а ночью, также на полу, спали все, повернувшись в одну сторону и согнув ноги — колени одних впритык под колени других. Перевертывались целым огромным рядом с толкотней и руганью.
Жизненный опыт все больше подталкивал меня к мысли о бессмысленности жизни. Падение догмы способствовало развитию в моем мироощущении элементов экзистенциализма, может быть, в духе Камю, хотя я тогда еще не читал ни Камю, ни других экзистенциалистов. Позднее я испытал влияние логического позитивизма."
Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так вот — в 1949 году, когда органы подбирались к Шейнину и даже к Эренбургу, мое освобождение из тюрьмы в 1943–м, вразрез со всяким здравым смыслом, кто‑то придумал связать с Шейниным и Эренбургом. “Ты что, нашего Леву знал?” — спрашивал следователь, имея в виду Шейнина. “По Эренбургу давно тюрьма плачет”, — добавил он. Но я никогда не видел ни Шейнина, ни Эренбурга и, признаюсь, никогда не симпатизировал ни тому, ни другому, хотя вот в какой‑то мере обязан им минутным участием.
Но — не буду забегать вперед, а вернусь к моменту выхода из тюремной больницы. Нас, освобожденных доходяг, отправили с провожатым в Тбилиси, местным поездом. Там мы должны были ждать уже упоминавшиеся справки, буханки и железнодорожные билеты для проезда на постоянное место жительства. Население города уже знало об освобождении группы несчастных из тюрьмы, и некоторые с необыкновенным сочувствием к нам обращались, расспрашивая и поздравляя.
Большинство освобожденных, пользуясь этим сочувствием, растеклось по городу с протянутой рукой, а я отправился в книжные магазины и истратил накопленные на голодовке деньги на книгу “Великие религии Востока”. Погуляв по городу, который меня поразил обилием молодых, веселых, хорошо одетых мужчин, я вернулся на вокзал и, сев на скамью, с наслаждением углубился в чтение. За несколько дней пребывания в Тбилиси я буквально проглотил эту книгу об индуизме, буддизме, синтоизме, даосизме, конфуцианстве. Меня взволновали древние решения вечных вопросов на Дальнем Востоке, уравновешенный, созерцательный взгляд на мир их философий, представление о вечном круговороте природы, включающем человека.
Те финалистские взгляды на мир в их марксистской редакции, в которых воспитали меня школа и вуз, сильно поблекли еще прежде чтения этой книги. Достижение идеального земного устройства давно уже казалось мне маловероятным. Я пришел к мысли, что научный социализм — такая же утопия, как и донаучный, который определяется в наших учебниках термином “утопический”. Следующим шагом для меня был отказ от грубого представления о примате экономики. На примере тбилисской пересыльной камеры я увидел, что экономический фактор может сам влиять чисто психологически, идеальным путем. Было уже очень много примеров в моей голове и грубого подчинения экономических моментов в угоду политическим. Дольше всего я еще держался за “диалектику”. Но, отходя от социологии и прямолинейного представления о прогрессе на основе роста производительных сил и тому подобного, я оставался европейцем, то есть человеком, который даже в своей личной жизни стремится к реализации своих способностей, которому небезразлично, как герою рассказа Джека Лондона “Китаёза”, кому отрубят голову, ему или другому, который занят активными поисками идеала. Хотя мой несчастный опыт войны, отступлений, окружений и всего прочего, казалось бы, демонстрировал ничтожность личности и ее притязаний перед высшими силами, отказаться от личности, в том числе от своей собственной, и встать на восточную позицию спокойного и покорного созерцания жизненного потока, в котором личность испытывает превращения и распадается, я не мог. Не могу и сейчас. Но что‑то от “восточного” взгляда на мир, больше всего от буддизма, в меня вошло тогда при чтении книги Беттани и Дугласа, вошло и не ушло до сих пор.
С раннего детства мое сознание тянулось к представлению об осмысленной связи целого, о необходимости гармонии как чего‑то фундаментально — укорененного, а не как скользнувшего на мгновенье луча солнца по цветку. Всякие конфликты, разлады, бессмыслица даже в частных случаях меня исключительно огорчали. Не зная еще этих слов, я всегда был за Космос против Хаоса, но не был настолько в себе уверен, чтобы не трепетать перед Хаосом. Все, что мне пришлось повидать во время войны, должно было убедить меня в слабости и иллюзорности Космоса и в силе Хаоса, легкости его возникновения, широкого масштаба его распространения, безудержности его проникновения в любую сферу. На более позднем этапе проблема Хаоса/Космоса и их соотношения в модели мира стало центральным пунктом моих философских размышлений и научных работ. Но тогда, после конца моей войны, обилие впечатлений от Хаоса не поколебали еще моей веры в принципиальный примат Космоса и закономерности победы второго над первым. Это поддерживало и мой личный оптимизм.
Оказавшись на вокзале наедине с книгой, я обратился мыслью к своим юношеским научным интересам… Западная литература девятнадцатого века, особенно Ибсен, диссертацию о котором я начал писать до войны, — все это мне вспоминалось теперь таким камерным, узким, комнатным… Я мысленно противопоставлял этому “Войну и мир” Толстого, героические эпосы, особенно архаические, в которых героика переплетается с причудливостью мифологической фантастики. И я, забывши о своем положении, представлял себе, как, оставив Ибсена и девятнадцатый век, буду писать диссертацию… ну, скажем… по кельтскому эпосу!
Вот из подобных мечтаний и вывел меня однажды, вдруг выросший как из‑под земли, мой бывший товарищ по окружению, лейтенант госбезопасности. Но я уже рассказывал об этом эпизоде в другом месте и не буду к нему возвращаться.
На второй день пребывания в Тбилиси среди освобожденных разнесся слух, что в горисполкоме мы имеем право получить продуктовые рейсовые карточки, в частности хлебные. Я понимал, что раз нам выдан сухой паек и мы не прописаны в городе, то ничего нам и не полагается дополнительно. Однако товарищи почти силой потащили меня в ту контору при исполкоме, где выписывали продовольственные карточки. Нам, конечно же, объяснили, что мы не имеем на них никаких прав. Но объяснявшая все это симпатичная женщина, под конец поколебавшись, спросила, куда мы направляемся. Выяснилось, что все остаются на Кавказе и только я еду далеко, в Среднюю Азию. Тогда именно мне она и выписала эти карточки (совершенно незаконно, конечно) к большому разочарованию моих товарищей.
У меня были теперь и карточки, и часть буханки, которую я еще не съел, и несколько рублей, достаточных для выкупа хлеба по карточкам, и еще деньги, данные мне официально на выкуп билета на пароход для переезда из Баку в Красноводск — то есть в Среднюю Азию. Я, признаться, с недоумением и осуждением смотрел на своих товарищей, которые буквально побирались по Тбилиси, а ведь некоторые из них были недавно боевыми командирами на фронте.
Однако, как оказалось, я не имел права их осуждать особенно сурово. Чуть позже в Баку на улице я как‑то раз встретил женщину, которая несла сумку с продуктами и вторую, набитую белыми булками. И вдруг не я, а кто‑то, скрывавшийся во мне, моим голосом сказал: “Дайте мне булочку”. Женщина, глянув на мое рубище, с ужасом отпрянула и почти побежала от меня по улице. Я не был по — настоящему голоден, так же как и мои товарищи по несчастью в Тбилиси; скорей всего, просто хотел испытать, способен ли я протянуть руку. Я до сих пор до конца не могу объяснить своего тогдашнего порыва, так не соответствующего моим принципам и привычкам. Может быть, это были первые признаки деклассации, которая, впрочем, все‑таки не успела во мне развиться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: