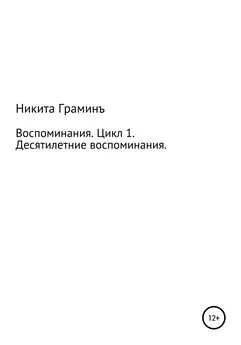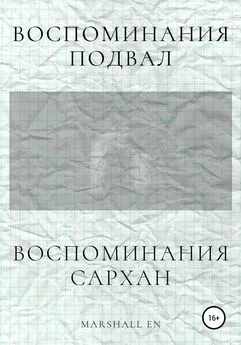Елеазар елетинский - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елеазар елетинский - Воспоминания краткое содержание
"Лет через десять после начала войны и лет через шесть после ее окончания я встретился с профессиональным военным корреспондентом Тихомировым. Мы спали на соседних нарах в исправительно-трудовом лагере "П". Лагерь был лесоповальный, с лесопильным заводом, но к моменту нашей встречи мы уже оба были "придурками", то есть служащими, а не рабочими, и жили в бараке для административно-технического персонала. В лагере, так же как и на фронте, идеализируется долагерное (довоенное) прошлое и во всяком случае усиливается желание утвердить себя за счет своего прошлого перед соседом. (...) Я с удивлением услышал, что самая его лучшая корреспонденция, причем о самом лучшем, то есть самом героическом бое относится не ко времени взятия Берлина и вообще нашего наступления во второй половине войны, а к борьбе за хутор Бескровный, недалеко от Славянска, весной 1942 года. Этот эпизод был описан Тихомировым как блестящая победа, в силу счастливого сопряжения тактической мысли и личной храбрости и в особенности благодаря удачной координации "родов войск", то есть танков и пехоты. # Странным образом, я не только слышал об этом бое, но и сам в нем участвовал в качестве офицера связи своего полка и соседней дивизии (я периодически перебегал из одной землянки в другую через сельскую улицу, вдоль которой стреляли немецкие танки). Впечатления мои от этого боя - самые тяжкие. В тот период мы стояли в жесткой обороне на Украине, но пытались время от времени организовать прорыв и затем развить наступление. Самая крупная из таких попыток - движение к Харькову на Лозовую - [Б]арвенково. Одна из небольших попыток того же рода, совершенно неудавшаяся, как раз началась борьбой за хутор Бескровный. Так вот, все что я знал и что особенно видел своими глазами, было прямо противоположно тому, что видел и знал Тихомиров. (...) Военный корреспондент Тихомиров и я, как герои фильма Куросавы "Расемон", предлагаем две версии того же события. А что же было на самом деле?..
В тбилисской пересыльной тюрьме были не только бывшие военнослужащие (их здесь называли вояки), но и местные уголовники (с двумя из них я в первый момент вступил в невольный конфликт и был поддержан другими вояками), и местные политические, некоторые задержались здесь, поближе к родным, с 1937-38 годов, охраняемые блатом. (...) Скученность в тюрьме была ужасная. В большие камеры набивали человек 150-200. Каждому отмеряли и отмечали мелом прямоугольник в считанные сантиметры длины и ширины, и на этих сантиметрах мы должны были существовать. Днем сидели на полу, кое-как поджав ноги, а ночью, также на полу, спали все, повернувшись в одну сторону и согнув ноги — колени одних впритык под колени других. Перевертывались целым огромным рядом с толкотней и руганью.
Жизненный опыт все больше подталкивал меня к мысли о бессмысленности жизни. Падение догмы способствовало развитию в моем мироощущении элементов экзистенциализма, может быть, в духе Камю, хотя я тогда еще не читал ни Камю, ни других экзистенциалистов. Позднее я испытал влияние логического позитивизма."
Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В Баку я решил пойти в Наркомпрос, чтобы проверить, где находится МГУ, и выяснить, на что я вообще могу рассчитывать с моей справкой об освобождении.
В бакинском Наркомпросе толпа служащих там женщин приняла меня с необыкновенным сочувствием, радушием, теплотой, прямо как родного, даже сводили меня к замнаркома, и он тоже меня ободрил, но о местонахождении МГУ точно не знал. На прощанье дамы собрали для меня деньги — шестьдесят рублей — и очень кстати, потому что пароход через Каспий оказался дороже, чем предполагали финансисты УИТЛК в Тбилиси. Те же дамы уговорили меня, почти насильно принудили, пойти в Азербайджанское УИТЛК (то есть Управление исправительно — трудовых лагерей и колоний НКВД) и попросить заново срой паек на дорогу. Представьте, мне его выдали, опять хлеб и селедки, так что я был в пути обеспечен, хотя и нищенским пайком, но как бы трижды. Меня так хорошо принимали в Баку, что даже мелькнула мысль — может, следовало там временно и остаться.
Из Баку я дал телеграмму жене, что еду в Ташкент. Я был уверен, что она в Москве. Все это время, пока я сидел в тюрьме, я не пытался дать о себе знать ни ей, ни родителям. Хотел сам вылезти из преисподней, понимая при этом, что они (мои родители, о жене Нине и говорить нечего) мало чем могут быть мне полезными. По счастью, не только Нина, но и родители мои успели к этому времени вернуться в Москву. Телеграмма попала прямо в их руки. Следствием этого было то, что в Ташкенте, куда я, наконец, добрался, в первый же день на Главпочтамте я обнаружил на свое имя перевод на 500 рублей. Очень кстати, ибо деньги мои кончились.
Ташкент
Итак, я оказался в Ташкенте. Без денег, без перспективы найти свой университет (о том, что МГУ был эвакуирован не в Ташкент, а в Ашхабад, а потом переведен в Свердловск, я узнал в поезде Красноводск — Ташкент), без родителей, одетый в страшное, пугающее, нищенское рубище, но… в хорошем настроении и с надеждой на жизнь и ее радости.
Я шел по центру города и читал вывески. И вдруг на одном из домов увидел табличку “Институт мировой литературы АН СССР”. А надо сказать, что еще будучи аспирантом ИФЛИ, я собирался перевестись в аспирантуру Института мировой литературы, где были заинтересованы в скандинависте, а я как раз был готов отвлечься от французской литературы, которой я занимался в студенческие годы, от мадам де Лафайет и прочего и превратиться в скандинависта, занимался Ибсеном, норвежскими романтиками и увлекся скандинавскими языками. Перевод мой в ИМЛИ был уже фактически решен, когда началась война. Встреча с ИМЛИ в военном Ташкенте была и спасительной, и пророческой, ибо через много лет, когда, наконец, кончился основной цикл моих “приключений”, мне удалось поступить на работу в это учреждение. Это было уже в начале 1956 года, и провел я там долгие годы…
ИМЛИ — московский институт, но в 1943 году москвичи почти все уже вернулись из Ташкента в Москву, а в оставшейся в Ташкенте части института работали ленинградцы. Питерскими людьми были и директор — академик Владимир Федорович Шишмарев, и зам. директора— Борис Соломонович Мейлах. С волнением и надеждой открыл я дверь, на которой была прибита заветная табличка. Два года я не имел ни малейшей надежды войти в такую дверь. Теперь я чувствовал себя кем‑то вроде блудного сына, с робостью заглядывающего в родной “академический” дом. Я не думал о своем рубище, о штанах, подвязанных проволокой, об экзотической зеленой шляпе, которые хоть кого могли бы испугать.
Однако Б. С. Мейлах, перед которым я предстал в таком виде, принял меня совершенно бесстрастно, не моргнув глазом, выслушал мой краткий, но весьма экзотический рассказ и холодно — доброжелательно разъяснил, что в ИМЛИ нет никаких мест, возможных перспектив, но что мне стоит попытаться восстановиться в аспирантуре Среднеазиатского университета (САГУ), где преподают и Шишмарев, и Жирмунский, а последний теперь еще и директор вновь созданного при САГУ Научно — исследовательского историко — филологического института (НИИФ).
Забегая вперед, скажу, что в тот же день вечером Шишмарев принимал меня у себя дома, угощая кашей из риса и маша. Кажется, на следующий день я встретился с Виктором Максимовичем Жирмунским, которому суждено было сыграть впоследствии большую роль в моей научной жизни. После беседы на академические и иные темы он согласился быть моим научным руководителем, если администрация САГУ примет меня с моими сомнительными документами. Помню, Виктор Максимович сказал: “У Вас какая‑то странная справка, из которой ничего не понять… Вот меня арестовали в начале войны, а затем выпустили, но дали справку, где ясно написано, что "дело прекращено из‑за недостатка улик"”. И в тот же день я был у декана филфака Красноусова — крупного мужчины с обликом “шестидесятника”, который, ознакомившись с моей справкой, сказал, что примет меня только в том случае, если ему прикажут сверху.
Таким образом, с ходу вернуться к прежней академической жизни мне не удалось. Но я не унывал и не терял надежды. Когда я рассказывал о себе равнодушному Б. С. Мейлаху, обрывки нашего разговора долетели до ушей нескольких толпившихся в коридоре аспирантов. Когда же разговор окончился, они все ринулись ко мне с сочувствием и расспросами. Нашлись знакомые и знакомые знакомых. Ося Гилинский тут же по доверенности (у меня не было паспорта!) получил деньги, ждавшие меня на почтамте. Куда‑то меня сводили поесть. Пристроили на ночлег. Две первые ночи в Ташкенте я спал на столе посреди террасы в домике, где снимала комнату одна из аспиранток. На следующие ночи я был пристроен во дворе университета. Взявшие надо мной шефство студентки пятого курса вытащили мне из своей комнаты в общежитии кровать. Посреди ночи я чуть было не был выдворен комендантом, но мои попечительницы высыпали гурьбой во двор и отбили меня. Это была молодежь, в основном — девушки, эвакуированные из Ленинграда, Москвы, Киева, Одессы. Одесситок было больше всего. Их сочувствие очень отогрело мне сердце.
Первые дни в Ташкенте я был возбужден и держался на нервном подъеме. Но на четвертый день меня свалила страшная слабость. Мои покровительницы положили меня в больницу, где я провел почти полтора месяца. Но и там девушки не оставляли меня своими заботами, усердно посещали каждый день (они установили нечто вроде дежурства), приносили мне десять обедов из университетской столовой. Десять вторых — это были десять маленьких кусочков селедки или сыра и это мне было очень кстати. Но десять первых, почти полное ведро баланды, то есть воды, чуть забеленной мукой, — это было уже слишком! Впрочем, я очень был растроган, тем более, что больничное питание было на “овчальском” уровне. И больные были все те же дистрофики, так что все это живо мне напомнило тюремную больницу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: