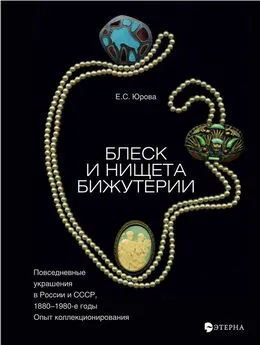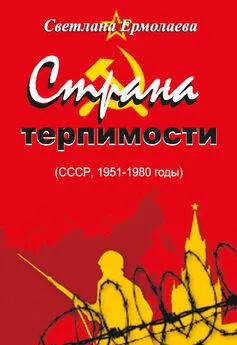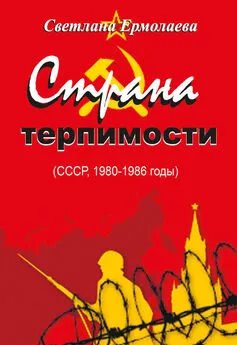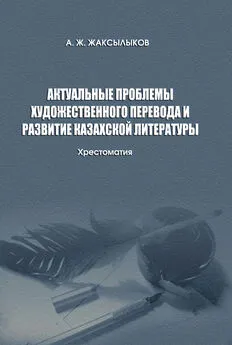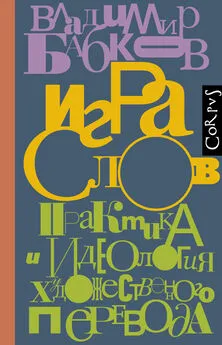Андрей Азов - Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы
- Название:Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1065-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Азов - Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы краткое содержание
В книге рассматриваются события из истории раннего советского переводоведения. Обсуждается, как с 1920-х по 1950-1960-е годы в теоретических и критических работах, посвященных переводу, менялось отношение к иноязычному тексту и к задачам, которые ставились перед переводчиком. Разбираются переводческие концепции, допускавшие (и даже провозглашавшие) перевод, сохраняющий необычность и стилистическое своеобразие иноязычного произведения, а также концепции, признававшие лишь перевод, приспосабливающий иноязычное произведение к литературным вкусам и мировоззрению читателя. Показывается, как с помощью критических статей, вооружившись наработанными теоретическими построениями, переводчики вели между собой нешуточную борьбу.
В качестве развернутой иллюстрации к описываемому приводится история конфликта между И.А. Кашкиным, предложившим теорию реалистического перевода, и носителями иных переводческих взглядов – Е.Л. Данном и Г.А. Шенгели. Впервые публикуются архивные документы, относящиеся к полемике Кашкина, Ланна и Шенгели 1950-х годов.
Для переводоведов, историков литературной критики и всех интересующихся историей отечественного перевода.
Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как бы то ни было, статья Ланна, указывающая на чрезмерную вольность того переводческого метода, который вскоре будет назван методом реалистического перевода, а также отстаивающая ланновское понимание точности перевода, осталась неопубликованной и на дальнейший ход дискуссии никак не повлияла.
1.3. Ложный принцип и неприемлемые результаты
Следующая статья Кашкина, направленная уже непосредственно против Ланна, появилась в 1952 г. в весеннем номере журнала «Иностранные языки в школе». Она во многом повторяла статью «Мистер Пиквик и другие» 1936 г., но теперь уже была вся сосредоточена на Ланне и Кривцовой. К их переводам предъявлялись всё те же претензии, что и в статье 1936 г., а именно: непривычный и потому трудный для восприятия синтаксис, использование слов в непривычном значении (например, «пароксизм поклонов» или «летаргический юноша»), непривычный фонетический облик иностранных собственных имен, неудачное воссоздание неправильной речи низких социальных слоев [75], несмешной юмор. К этим упрекам собственно переводческого характера присоединяется разве что вполне обоснованное возражение против отказа от использования слов более поздней эпохи, чем та, когда был написан подлинник [76], да обвинение в засорении русского языка неудачными каламбурами и многочисленными иностранными заимствовании. Но зато какая разница в тоне, сколько дополнительных приемов использовано, чтобы как можно сильнее уронить Ланна в глазах читателей! [77]
Начать с того, чем открывается статья. Прежде чем приступить к разбору переводов Диккенса, Кашкин предлагает сравнить, как относятся к Диккенсу в Советском Союзе и у него на родине. В СССР имя Диккенса знакомо любому советскому школьнику, он дорог советскому читателю как писатель-реалист XIX века, как защитник низших классов против высших, как каратель лжи и лицемерия. В буржуазной Англии же газетчики-борзописцы честят Диккенса парламентским репортеришкой, а продажные критики замалчивают лучшее в его творчестве или просто его фальсифицируют. «Этим буржуазная критика выполняет… общий приказ заправил английской империалистической буржуазии, стремящейся одурманить простого англичанина, чтобы сделать его покорным орудием своих шовинистических планов». Тут же следует вывод: «не приходится говорить, насколько важно сейчас не допускать какого-либо извращения Диккенса в переводе, насколько важен сейчас правильный подход к переводу его книг, чтобы верно донести до читателей всего мира подлинное содержание его творчества». Таким образом, Кашкин уже заранее готовит своего читателя к тому, что далее пойдет речь не просто о переводческой проблеме, но о деле политическом, и плохой переводчик Диккенса (а далее доказывается, что Ланн как переводчик плох) играет на руку – если не действует по заказу – «английской империалистической буржуазии».
В помощь критику привлекается своеобразный условный персонаж: «советский читатель», о желаниях и потребностях которого критик заранее всё знает. «Советского читателя, – говорит он, – интересуют не слова, а творчество Диккенса в целом». «Советского читателя может интересовать прежде всего не просто языковая ограниченность писателя, грамматические и стилистические нормы и особенности, свойственные только английскому языку и по существу непереводимые, но то художественное мастерство, с которым Диккенс отбирает и использует возможности своего языка для достижения больших творческих целей». «Советского читателя может интересовать не просто структурный костяк, но живая, художественная ткань произведений Диккенса». И «разве советский читатель ищет в реалистических произведениях Диккенса только внешний экзотический реквизит, юридические казусы, галерею монстров?».
Неоднократно, говоря о переводах Ланна и Кривцовой, Кашкин использует слова «формализм» и «буквализм». Он напоминает, что Ланн – автор «весьма спорной по методу и языку книге о Диккенсе» (чем фактически поддерживает проработочную статью Елистратовой в «Культуре и жизни»). Вырывая ланновские слова из контекста, он представляет его читателю напыщенным глупцом. Например, после своего анализа творчества Диккенса с социальной точки зрения он цитирует Ланна так: «Когда мы говорим о мастерстве Диккенса, – заявляет он [т. е. Ланн], – мы, прежде всего, имеем в виду запас его идиом, жаргонизмов, каламбуров и близких каламбуру тропов» [19526, с. 26]. Между тем у самого Ланна это место звучит так (курсив мой): «Когда мы говорим о мастерстве Диккенса в распоряжении накопленным к 1837 году словарем , мы прежде всего имеем в виду запас его идиом, жаргонизмов, каламбуров и близких к каламбуру тропов, а также способность дать социальный портрет средствами речевой характеристики», – причем и находится это предложение в разделе о лексике “Посмертных записок Пиквикского клуба” [Ланн, 1937, с. 114]. В другом месте Кашкин пишет: «Переводчик диккенсовского юмора… совершенно серьезно вещает как бы в свое оправдание: “Допустимость субститута вполне оправдана, ибо сохраняет общую внутреннюю форму двух идиотизмов”» [19526, с. 27]. Здесь мало того что ланновская фраза вырвана из контекста (где он писал о принципах перевода фразеологических оборотов и идиом английского языка [1939, с. 166]), так автор еще и приглашает читателя посмеяться над ней (в заключении статьи Кашкин скажет об «элементах вроде псевдонаучной терминологии»). Между тем процитированная ланновская фраза, взятая из его статьи 1939 г., – пример типичного языка, используемого для научного описания перевода в 1930-е годы: в «Литературной энциклопедии» 1929–1939 гг. в статье «Перевод» присутствует термин «субститут», а кроме того, есть отдельная статья о стилистическом термине «идиотизм».
Но особенно страшный удар по Ланну Кашкин наносит в конце статьи [78]:
Когда разбираешься в переводческой практике буквалистов и особенно в теориях Е. Ланна, то все время вспоминаются какие-то уже слышанные, знакомые мотивы, и постепенно приходит на ум еще один случай проявления догматической схоластики в области науки о языке и литературе.
Приходится вспомнить некоторые из тех элементов «нового учения» Н.Я. Марра о языке, которые могут иметь отношение к разбираемым нами вопросам как наглядное предостережение и напоминание о том, до каких пределов могут завести схоластика и догматизм.
Таковы: неисторический подход к языковым явлениям, при котором, в угоду произвольным и надуманным схемам, искажаются и подтасовываются факты реального бытия языка; отрыв мышления от языка и всяческая заумь; неуважение к законам родного языка, разрушение его строя и грамматики внедрением иноязычия и чужих языковых норм и элементов вроде псевдонаучной терминологии; теория языковых взрывов; преувеличение роли профессиональных и социальных жаргонов и стремление подменить ими общенародный язык; и, наконец, догматическая декларативность и нетерпимость ко всякой иной точке зрения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: