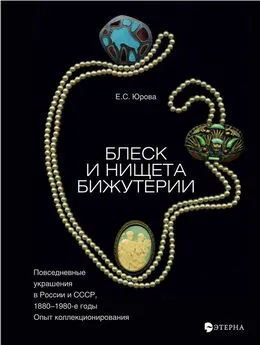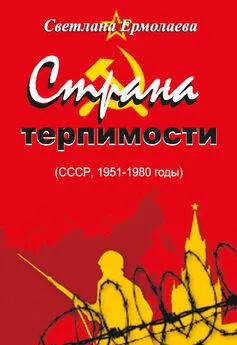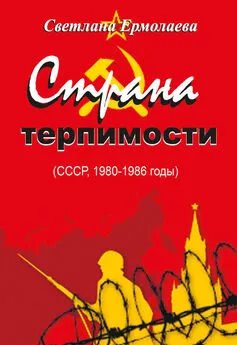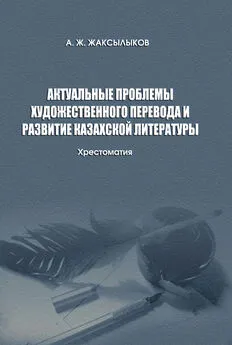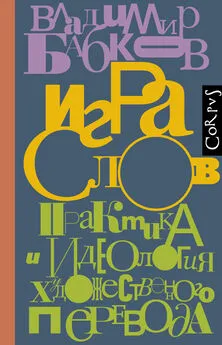Андрей Азов - Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы
- Название:Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1065-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Азов - Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы краткое содержание
В книге рассматриваются события из истории раннего советского переводоведения. Обсуждается, как с 1920-х по 1950-1960-е годы в теоретических и критических работах, посвященных переводу, менялось отношение к иноязычному тексту и к задачам, которые ставились перед переводчиком. Разбираются переводческие концепции, допускавшие (и даже провозглашавшие) перевод, сохраняющий необычность и стилистическое своеобразие иноязычного произведения, а также концепции, признававшие лишь перевод, приспосабливающий иноязычное произведение к литературным вкусам и мировоззрению читателя. Показывается, как с помощью критических статей, вооружившись наработанными теоретическими построениями, переводчики вели между собой нешуточную борьбу.
В качестве развернутой иллюстрации к описываемому приводится история конфликта между И.А. Кашкиным, предложившим теорию реалистического перевода, и носителями иных переводческих взглядов – Е.Л. Данном и Г.А. Шенгели. Впервые публикуются архивные документы, относящиеся к полемике Кашкина, Ланна и Шенгели 1950-х годов.
Для переводоведов, историков литературной критики и всех интересующихся историей отечественного перевода.
Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При этом, когда газетная борьба обращалась против того или иного врага, о прошлых врагах подчас забывалось. Чрезвычайно интересно наблюдение Е.Н. Басовской над тем, что во время полемического всплеска 1934 г., обращенного, напомню, против простонародных слов и выражений, «засоряющих» литературный язык, «иностранные слова, которые, казалось бы, могли дополнить перечень речевых “сорняков”, не были объявлены таковыми ни в “Литературной газете”, ни в газете “За коммунистическое просвещение”» [20116, с. 82]. К иностранным заимствованиям как главным загрязнителям русского языка вернулись уже в конце 1940-х, с началом борьбы с космополитизмом.
Всё это, как будет видно в гл. IV, отразилось и на переводческой критике. Причем интересно, что из двух статьей И.А. Кашкина против переводов Диккенса, выполненных Е. Ланном и А.В. Кривцовой (первая статья написана в 1936 г., вторая в 1952 г.), во второй статье проблеме иноязычных заимствований уделено гораздо больше внимания, чем в первой, и по отношению именно к ним используется фраза «засорение языка».
7. Дискуссия о формализме
«Дискуссия о формализме», вспыхнувшая в 1936 г. после редакционной статьи в «Правде» «Сумбур вместо музыки», стала как бы завершающим аккордом в утверждении эстетики социалистического реализма во всех направлениях советского искусства – в музыке, живописи, литературе. Слово «формализм», используемое в этой дискуссии, уже не имело отношения к литературоведческой школе формалистов 1920-х годов, а обозначало любую техническую сложность, любые стилистические новшества, любое отклонение от поэтики жизнеподобия, утверждаемой социалистическим реализмом и требовавшей простоты, понятности, общедоступности. Впрочем, не всякое жизнеподобие было желательно – нежелательное жизнеподобие было обозначено словом «натурализм» и, так же как формализм, представлено врагом советского искусства. Вообще, для этой дискуссии был характерен особый политический накал: если в прежних дискуссиях на первый план – хотя бы декларативно – выходили соображения эстетического плана, прикрывавшие собой политический характер полемики, то теперь он, наоборот, всячески подчеркивался. Кроме того, эта дискуссия отличалась безропотной покорностью всех ее участников: если в двадцатые годы шли ожесточенные споры между литературными группировками, если даже в 1934 г. Серафимович возражал Горькому по поводу «Брусков» Панферова, а участники последовавшей за этим «дискуссии о языке» отстаивали разные убеждения [22], то теперь все – и правоверные реалисты, и те, кого зачислили в формалисты, – единодушно были за реализм и против формализма. Значение слов «формализм» и «натурализм» размывалось; они лишались конкретного научного и литературного содержания, превращались в ругательства, в предельно идеологизированные символы чего-то враждебного социализму. Показательна попытка Даниила Хармса вообще отказаться в своем выступлении на заседании Союза советских писателей (3 апреля 1936 г.) от этих слов: «Я затрудняюсь пользоваться терминами “формализм” и “натурализм” в тех смыслах, в каких они употребляются на литературной дискуссии. Смысл термина “формализм” настолько разнообразен и настолько каждым выступающим трактуется по-своему, что я не вижу возможности употреблять его в каком-то определенном значении. Термин “натурализм” стал почти однозначным с понятиями “цинизм” и “порнография”».
Отразилась дискуссия о формализме и на спорах о методе художественного перевода: слишком уж удобными оказались выработанные во время нее термины, слишком крепко врезались они в сознание – настолько крепко, что свыше двадцати лет после этого сохранялись в переводческой критике. Плохой переводчик, проявляющий пристальное внимание к оттенкам значения каждого слова подлинника, – натуралист. Плохой переводчик, воспроизводящий необычные стилистические или поэтические приемы подлинника, – формалист. И натуралист, и формалист – одинаково враги; их должно отлучить от переводов или перевоспитать из плохих переводчиков в хорошие. На ценностной оси советской критики противоположностью натурализма и формализма был социалистический реализм. Поэтому совершенно закономерно, что хороший переводчик был со временем объявлен переводчиком-реалистом, а хороший метод художественного перевода – реалистическим (см. гл. III). Если и стоит чему-то удивляться, то только тому, насколько поздно это произошло: Иоганн Альтман, поместивший в «Литературном критике» статью «О художественном переводе», был буквально в шаге от этого [23](см. ниже раздел «Теория творческого перевода»).
8. Проблема стихотворного перевода: вопрос о форме
Николай Степанович Гумилев в статье «Переводы стихотворные», опубликованной в сборнике «Принципы художественного перевода» (1919 г.), презрительно осуждал отступления от формы оригинала. «Существуют три способа переводить стихи, – писал он, – при первом переводчик пользуется случайно пришедшим ему в голову размером и сочетанием рифм, своим собственным словарем, часто чуждым автору, по личному усмотрению то удлиняет, то сокращает подлинник; ясно, что такой перевод можно назвать только любительским. При втором способе переводчик поступает в общем так же, только приводя теоретическое оправдание своему поступку: он уверяет, что если бы переводимый поэт писал по-русски, он писал бы именно так… И теперь еще некоторые думают, что можно заменять один размер другим, наприм., шестистопный пятистопным, отказываться от рифм, вводить новые образы и так далее… Однако, поэт, достойный этого имени, пользуется именно формой, как единственным средством выразить дух» [1919, с. 25]. Он выдвигал «девять заповедей для переводчика», добавляя в шутку: «так как их на одну меньше, чем Моисеевых, я надеюсь, что они будут лучше исполняться». «Заповеди» эти предписывали поэту-переводчику соблюдать:
1) число строк, 2) метр и размер, 3) чередованье рифм, 4) характер enjambement, 5) характер рифм, 6) характер словаря, 7) тип сравнений, 8) особые приемы, 9) переходы тона [Там же, с. 30].
Статья Гумилева, рассчитанная на начинающих переводчиков, не обсуждала – утверждала; Гумилев в ней выступал учителем, наставляющим правилам перевода [24]. В последующие годы, казалось, в Советском Союзе само имя Гумилева должно было дискредитировать отстаиваемые им положения. Действительно, по прошествии чуть более тридцати лет на утверждения Гумилева нападала Е. Егорова [25]:
Теоретик декадентского искусства художественного перевода Гумилев в своих «заповедях» поэтам-пере-водчикам предусматривал только эквилинеарность, эквиметрию, эквиритмию, сохранение чередования рифм, характера переносов стиха, то-есть требовал сохранения только формальных признаков подлинника. Формальный прием был превращен декадентами в некий фетиш. Этот фетишизм формы чужд советскому искусству художественного перевода. Советские переводчики решают вопросы формы в тесной связи с идейным содержанием и особенностями родного языка и поэтики [РГАЛИ, ф. 1702, оп. 4, д. 1336, л. 9].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: