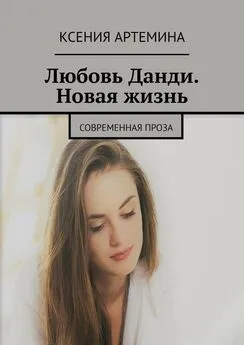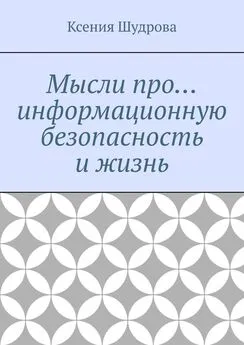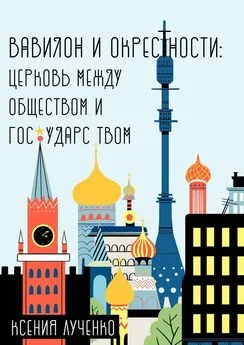Ксения Лученко - Матушки: Жены священников о жизни и о себе
- Название:Матушки: Жены священников о жизни и о себе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Никея
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91761-158-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ксения Лученко - Матушки: Жены священников о жизни и о себе краткое содержание
В этой книге собраны рассказы жен священников о своей жизни. Их называют «матушками», по аналогии с тем, как священников называют «батюшками». Как правило, семейная жизнь духовенства тщательно скрывается от постороннего взгляда. Жизненный опыт матушек – во многом опыт ежедневных жертв. Но проблемы у нас у всех общие. Как их преодолевают матушки, жены тех священников, к которым мы часто обращаемся за советом?
Матушки: Жены священников о жизни и о себе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Смогла она адаптироваться в детском обществе?
– Она пыталась. Сейчас спрашивает: «Может, зря, мама, ты не отдала меня в детский садик?» Но какая я была тогда и какие были обстоятельства, я просто мысли не допускала отдать ее в садик, особенно после истории с Андрюшей. Она адаптировалась. Как? Нашла подружку, новенькую, которая пришла в третий класс, и они с ней общались, тем более она ходила в музыкальную школу, там был замечательный кружок по бисероплетению, который вел какой-то дедушка. Дед был замечательный, он был тихий, спокойный, приносил им разноцветный бисер – просто так раздавал. А потом она была очень послушная, это ошибка была моя, я не заметила в свое время – подозрительность послушания. Никогда конфликтов не было, все она делала: в музыкальную школу – значит в музыкальную школу, пошла в пять лет учиться музыке, еще до школы, это было самое лучшее время ее в музыке. Она ничего не знала и мало что умела. Но она откроет «Детский альбом» Чайковского и сидит, разбирает, не понимая в диезах с бемолями, кроме основных нот, и шурует, приходим к учительнице, она ей играет – музыка соответствующая. Учительница была мудрая женщина: «Ты, Маша, хорошо все сделала, ты молодец, что разобрала, но смотри, ты на это не обратила внимания, а это значит то-то и то-то, теперь послушай, как эта музыка звучит и насколько она отличается от твоей». И ребенок сидел у меня по три часа, не я ее заставляла, она дома сидела, никуда не ходила, можно сказать, «делать было нечего». Но она откроет ноты и по три часа сидит за пианино. У нее был другой подход к жизни. Я почему уважаю пианино и другие музыкальные инструменты, по одной простой причине: они могут не научить ребенка хорошо играть, но они научают ребенка работать. Это несомненное достоинство музыкального образования, даже такого тяжелого, как наши музыкальные школы. Она научилась работать и благодаря этому научилась переживать свои кризисы. С музыкой так было, и потом, когда она попала в Медицинский лицей. В школе ей было сложно, совершенно иная среда, и мы ей помочь не могли, потому что ничего в этом не соображали. Теперь в институте она совсем другая. Здесь она твердо стоит на ногах. Школа – специфическая вещь, там развиты все пороки общества, там важно, кто твои родители, важен твой статус. В институте это не имеет никакого значения, важно, что ты сам из себя представляешь.
– Как вы думаете, если семья священника – то круг общения детей должен быть связан с Церковью? У ваших детей именно так?
– Нет. Круг общения самый разный. Андрюша вообще специфический человек, он не очень контактный, но у них с отцом Георгием во многом общие друзья. А Маша общительная девочка, хочет, чтобы у нее было много друзей, и Медицинский институт к этому располагает. Может, это объясняется тем, что их школа стройными рядами переходит в институт и они друг друга знают с разных курсов, с разных потоков еще по школе. У нее есть масса друзей или приятелей, по-моему, на курсе человека два даже в церковь ходят. Я совершенно убеждена – среди медиков неверующих людей просто нет. Они об этом не говорят, они вообще мало говорят, те, которые стоят у рабочего дела, от которого все зависит. Хотя я знаю такого медика, который хотел повторить путь Луки (Войно-Ясенецкого): продолжать оперировать и при этом рукоположиться, – не знаю, чем это у него кончится. Что такое верующий человек? Можно сколько угодно декларировать свою веру, но и бесы веруют и трепещут. А врачи. Мне кажется, с крестом или без креста на шее, они спасутся через свое конкретное дело. И масса есть людей, которые в крестах, и декларируют себя верующими, и очень много говорят, посещают все службы, и малой толики не делают того, что делают эти люди. Я с годами подхожу к тому, что надо быть с Господом Богом один на один, а все остальное… Меня многое в нашей церковной жизни пугает, она как будто затмевает главное, затмевает Бога.
– Не получается ли так, что вы, понимая, что церковная обыденность, общение с церковными людьми, с клириками может отвратить от храма, сделать веру неживой, сознательно пытаетесь отгородить детей от этой обыденности и обрядоверия?
– Получается. Но вы понимаете, я не могу сказать, что делаю это сознательно, я их никуда не отодвигаю. Просто меня с годами все больше и больше занимают «примитивные» вопросы. Почему человек, мало знающий о Церкви, пусть крещеный, порой более способен на христианский поступок, чем я – и матушка, и с крестом на шее с пеленок, и в церковь хожу, и чего-то чуть-чуть знаю. Для меня это тайна. Тайны, конечно, нет, это говорит о том, что я слабая. Но меня подавляет эта ситуация, я чувствую себя в положении пыли, я ничего не могу, а тут я вижу людей, которые ничего не декларируют, а просто делают, а нам в Церкви, как я понимаю, этого не хватает. Есть чему поучиться.
Я очень люблю приметы ушедшей жизни и саму эту «старую» жизнь. Я люблю старые бумаги, книги, старые фотографии, но этого мало для настоящей жизни, если я хочу ее прожить. А не стилизоваться под… Я люблю, когда в церкви благолепно, пышно, а потом, я столько лет сталкиваюсь с церковью, где никого нет, ничего не благолепно, где батюшка косноязычный – служить не умеет и службы не знает, и люди ничего не понимают и понимать не хотят. Когда смотрю в деревне на этих людей… Кажется, это, письмо Хомякова Аксакову, где он пишет, как пытался объяснять литургию своим крестьянам и был в ужасе оттого, что они не только ничего не понимают, они и понимать не хотят. Прошло столько лет, а и сейчас под этим письмом можно подписаться. Когда бываю среди простых людей, иной раз раздражаюсь на них, а иной раз хочется перед ними на колени встать за то, что они способны в своей нищете на самые простые, человечные поступки, на которые ты, может быть, не способен. Это у меня выбивает почву из-под ног. Меня не испугает, если мои дети не будут любить акафисты, или не будут печь в четверг соль, или не будут петь духовные песни, меня больше всего пугает другое. То, что на самом деле уничтожает веру. Я над этим много думаю… Мы сейчас присвоили себе то, что нам не принадлежит, механически перенесли на себя опыт предшествующих поколений (игнорируя разрыв в 80 лет) и сочли вправе объявить себя продолжателями, наследниками и прочее. Совершенно не дав себе отчета в том, что эти 80 лет изменили нас, они нас сделали другими. Мы уже не те русские христиане, которые были до 1917 года и на нас это накладывает определенную ответственность: мы не можем прятаться ни за какую форму, ни за какие иконы, ни за какие облачения, вышивания, пения и прочее. Это, извините, не наше, мы это крадем, потребляем.
Начинать нам надо не с облачений, не с пения, не с православных мод, начинать надо конкретно с поступков. То есть уметь видеть и слышать, терпеть и прощать конкретного человека. Молиться помалу, быть может, но искренно и участно, а не болеть душой за Россию и Церковь, потому что это не наше дело. А печься о каждом дне и каждом человеке, который встретился тебе в этот день. Поэтому я бы и не стремилась к внешней форме. Есть она – слава тебе, Господи, нет ее – ничего страшного. Я не стремлюсь ее воссоздавать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
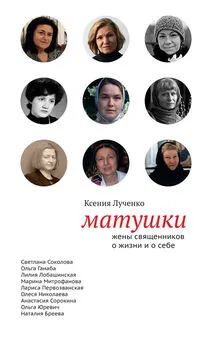
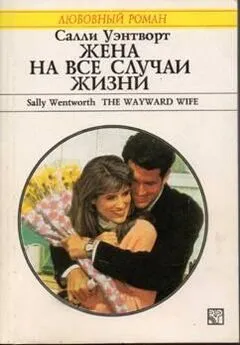
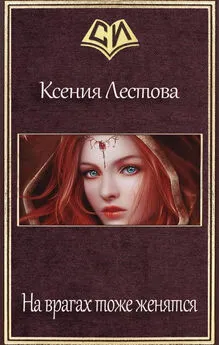
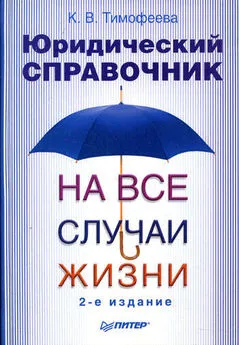
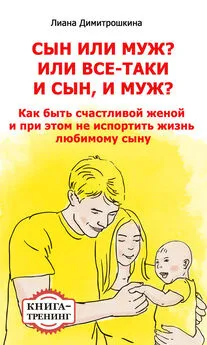
![Ксения Лестова - Без меня на мне женились [СИ]](/books/1088843/kseniya-lestova-bez-menya-na-mne-zhenilis-si.webp)