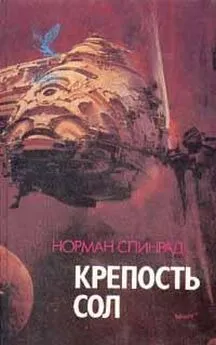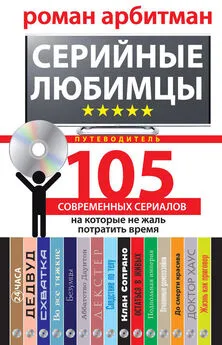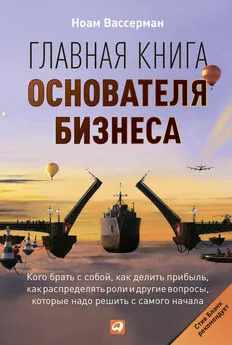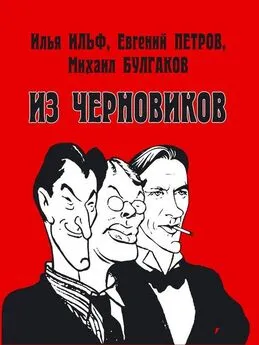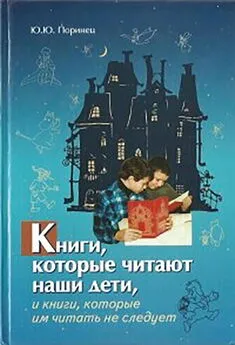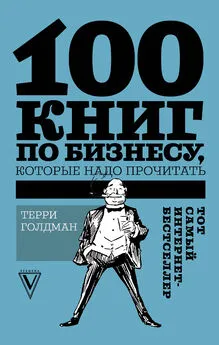Роман Арбитман - Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг, которые не надо читать
- Название:Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг, которые не надо читать
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-05129-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Арбитман - Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг, которые не надо читать краткое содержание
Известного критика Романа Арбитмана недаром называют «санитаром литературного леса»: вот уже несколько лет подряд он читает наиболее заметные книги, появившиеся на прилавках, и беспощадно расправляется с теми, читать которые опасно для здоровья и вредно для кошелька. Его «Антипутеводитель по современной литературе» состоит из кратких и остроумных рекомендаций со знаком «минус». Вы можете с ними согласиться — и тогда будете избавлены от разочарований. Но вы, конечно, можете пренебречь мнением критика и отправиться в путь по книжному морю на свой страх и риск. Выбирать вам. Однако потом не жалуйтесь, что вас не предупреждали.
Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг, которые не надо читать - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мысль о том, что Сталин, при всей его подозрительности, мог бы совершить промах и в ходе тотальной «зачистки» ближайшего окружения упустить хоть одного потенциального мемуариста, впервые пришла в голову вовсе не Радзинскому.
Еще в 1988 году был опубликован роман Владимира Успенского «Тайный советник вождя». Согласно сюжету, у Сталина уже в годы Гражданской войны якобы завелся друг-конфидент Николай Лукашов из числа царских офицеров. Вопреки названию, Лукашов не столько давал вождю советы (да полно, нуждается ли в них гений?), сколько оправдывал его в глазах потомков. Все победы золотыми жар-птицами слетались на белый сталинский китель, а все черные кляксы гнусных преступлений пачкали и без того замаранные одежды сталинских приспешников — в основном из числа скрытых или явных сионистов. Свою прозу Успенский упорно называл документальной и сердился, когда его записывали в мистификаторы.
Реального создателя «Апокалипсиса от Кобы» при желании еще проще поймать на мистификации, чем автора «Тайного советника вождя»: язык повествователя порой выглядит чересчур современным, а в тексте записок то и дело встречаются забавные анахронизмы («страны-изгои», «горячие финские парни» и пр.), выдающие не парижанина 60-х, а скорее, москвича начала нулевых. Однако, в отличие от насупленного Успенского, Радзинский ведет себя умнее. Он даже не очень старательно скрывает, что эмигрант Нодар Фудзи — образ вымышленный, а его мемуары — литературный прием, позволяющий взглянуть изнутри на историю неуклонного восхождения Иосифа Сталина к вершинам власти. Играя «в документ», автор не заигрывается; он знает, где надо остаться серьезным, а где можно и подмигнуть понимающему читателю. Так что когда Коба вдруг выдает тираду: «Им нужны великие споры, а нам нужно великое пролетарское государство», то это не Сталин перефразирует Столыпина, а сам Радзинский балуется постмодернизмом.
Не желая быть банальным, автор книги пытается избегать штампов, и зачастую ему это удается. Скажем, он без ущерба для фабулы почти выводит за рамки знаменитый сталинский акцент, который, по выражению одного из критиков, неизбежно превращал всякого книжного Иосифа Виссарионовича в пишущую машинку конторы «Рога и копыта», с буквой «э» вместо каждой буквы «е». Более того! Радзинский не боится даже взять анекдот («Товарищ Сталин, тут поймали человека, похожего на вас. Как с ним поступить — расстрелять или просто сбрить усы?») и сделать из него важный кирпичик фундамента всего сюжета. Постоянно упоминаемое внешнее сходство Фудзи с его героем подчеркнет и внутреннюю близость персонажей. Рассказчик — не просто свидетель: он зеркало, кармический двойник Сталина и соучастник его злодеяний.
Досадно другое. Чем дольше Радзинский прячется за маской Фудзи, тем сильнее этот хроникер лихих «экспроприаций» выкручивает рулевое колесо сюжета в свою сторону. Разбойничья эстетика сталкивает повествование в бульварщину. Налетчик и убийца, ставший рассказчиком, формирует не только стиль, но и систему мотиваций. Рациональное отступает, на смену приходит мистическая экзальтация; доминируют не логика с расчетом, а «странная сила, исходившая от моего друга». «Магнетизм» заглавного героя оказывается острой приправой к марксизму, толстяк Парвус — «таинственным толкачом революции», зануда Свердлов — «Черным Дьяволом», глаза Ильича вспыхивают «фантастическим, злобным светом» и т. п. Эпизод ночного ограбления могилы инфернального Распутина выглядит какой-то «Пещерой Лейхтвейса» пополам с «Натом Пинкертоном». Драматическая история огромной страны приобретает привкус — как сказал бы булгаковский Тальберг — оперетки. Случайно ли, что цветастое выражение «барс революции» применительно к Сталину употребляется тут не единожды и не дважды, а более полудюжины раз?
Впрочем, здесь-то как раз всё очевидно: по версии Радзинского, в марте 1953-го Сталин был насильственно умерщвлен, и иначе быть не могло. Всякий, кто читал романтическую поэму Лермонтова «Мцыри», знает, что барсы естественной смертью не умирают.
Нам вождя недоставало
Эдвард Радзинский. Иосиф Сталин. Последняя загадка: Роман. М.: Астрель
В «Мертвых душах» Чичиков уговаривает Коробочку уступить ему покойных крепостных за гроши. Дескать, он оплатит реальными деньгами прах, бесполезную вещь. «А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся», — жмется помещица, боясь продешевить. Чичиков сердится: «Мертвые в хозяйстве! Эк куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?..» Между тем Коробочка в принципе права, не соглашаясь на демпинг: среди усопших встречаются и полезные. Они стоят дорого и, главное, торговать ими можно не один раз.
К примеру, Иосиф Сталин — именно такой высоколиквидный мертвец многократного использования. Нынешняя власть достает из своих необъятных загашников мешочек с бренными костями генералиссимуса и громко трясет им всякий раз, когда ей необходимо приободрить державников и попугать либералов. И пока стенка идет на стенку, в грохоте словесных баталий совершенно теряется тихий шелест ассигнаций, перекладываемых из одного большого кармана в другой.
Выход в свет третьего, заключительного тома эпопеи «Апокалипсис от Кобы» довольно удачно (для автора и книготорговцев) совпал по времени с круглой датой исторической битвы на Волге и очередным вбросом на игровое поле заветного сталинского мешочка. В те самые дни, когда фан-клуб генсека опять пытался вернуть — хоть тушкой, хоть чучелом! — любимого вождя на карту России, а противники вновь ужасались перспективе переименования Волгограда в Палачегорск, на прилавках и возникла книга Эдварда Радзинского: история про то, какие масштабные гадости напоследок готовил для страны и всего мира рябой усатый старик.
Рассказчиком в романе по-прежнему выступает некто Нодар Фудзи — приятель Кобы с дореволюционной еще поры. Такой ход позволил романисту не слишком заботиться о красотах слога. «Нет, я не могу ее хорошо описать, я ведь не писатель», — оговаривается Фудзи, а Радзинский, который якобы выступает публикатором чужой рукописи, тут вроде ни при чем. Порой автор слегка оживляет повествование вставными эротическими номерами («Юбка упала к ногам. Она стояла в тех же ажурных чулках… Повернулась и, чуть наклонившись, поиграла задом»), но в целом следует суховатой исторической канве.
Для поступательного развития сюжета трех томов писателю необходим зоркий хроникер, который бы запечатлел Сталина в каждый из периодов его бурной жизни. А поскольку к началу 40-х едва ли не все из «удалых грузинских парней», кто мог бы еще помнить молодого Сосо, были уже в земле, Радзинскому пришлось изначально выдумать Фудзи, а его биографию сконструировать из фрагментов биографий реальных соратников вождя. Автор, впрочем, добавил своему персонажу малую толику рефлексии и присовокупил столь необходимое умение выживать там, где прочие уцелеть не смогли.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: