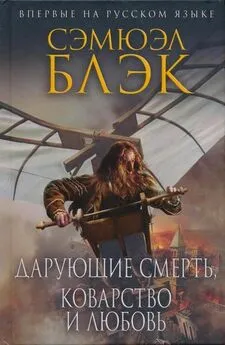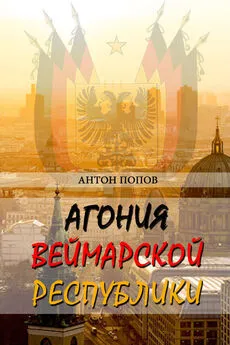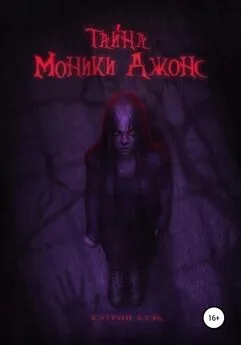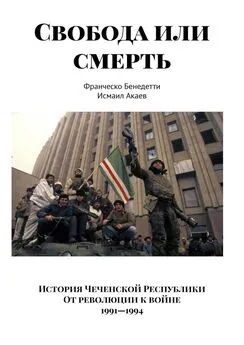Моника Блэк - Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии
- Название:Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0387-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Моника Блэк - Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии краткое содержание
Книга американского историка Моники Блэк посвящена берлинской «культуре смерти» – связанным со смертью представлениям и практикам, а также тому, что происходило с ними в конце 1920-х – начале 1960-х годов. Менялись ли взгляды немцев на смерть в годы Первой и Второй мировых войн, в послевоенные периоды, во время разделения страны на западную и восточную части? Влияли ли эти взгляды на политику Германии или же сами определялись ею? Материалом для исследования драматического столкновения частной повседневности с «большой» историей служат ритуалы погребения и поминания умерших, народные поверья и городские легенды, дневники и письма, публикации в прессе и официальные документы из немецких архивов.
Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нацизм сказался и на восприятии смерти спустя годы после войны. Могилы казненных в тюрьме Плётцензее все еще считались недостойными, и берлинцы возражали против строительства рядом с ними кладбища. Магистрат восстановил еврейские могилы в Вайсензее, уничтоженные во время войны, но современники рассказывали и об осквернении еврейских могил. Образы из нацистских лагерей – распространяемые в фильмах, газетах и радиопередачах – стали частью нового визуального языка смерти. Когда на берлинских кладбищах собирали для погребения обнаженные трупы, некоторые горожане сравнивали их с виденными ими фотографиями жертв нацизма в концентрационных лагерях.
В берлинскую культуру смерти в той или иной степени вмешались союзники, в основном занимавшиеся ликвидацией самых заметных следов нацизма. Весьма драматичное впечатление произвели советские власти, когда они собирали своих мертвецов и хоронили их всех вместе в Трептов-парке, на бульваре Унтер-ден-Линден и в других местах, на которые они тем самым заявляли свои права. Поминание же погибших на войне немцев, напротив, было затруднено. В Восточном Берлине публично чтить память погибших солдат запрещалось; в государстве, сделавшем своим долгом антимилитаризм и преодоление всего, за что ратовал нацизм, погибшие немецкие солдаты образовали идеологическое противоречие. Так, заведующие кладбищами удаляли подписи, указывавшие на воинские звания покойников, и надгробия с фразой «павший под Сталинградом» 886. В известном смысле строительство большого кладбища в Хальбе стало сделкой с совестью. Эрнст Тейхман и ему подобные желали, чтобы погибшие были опознаны и надлежащим образом захоронены – для утешения и умиротворения родственников. Восточногерманский режим хотел помешать поминанию «участников фашистского Вермахта» 887, но при этом хотел и рассеять настойчивые слухи, будто умершие просто пропали и могут однажды вернуться. К 1961 г. кладбище в Хальбе принимало до шестисот посетителей из Восточной Германии в неделю 888. Тем не менее, согласно Тейхману, оно все еще оставалось безлюдным; государственные власти почти не заботились о финансировании кладбища, и могилы часто опознавались неправильно 889. Когда Альф Людтке проводил исследование, посвященное памяти о Второй мировой войне в Восточной Германии, ему сообщили, что власти, к изумлению и ужасу местных жителей, часто убирали цветы, возложенные на отдельных могилах. Так продолжалось до самого конца истории ГДР 890.
Опыт смерти в годы войны также мешал попыткам ГДР провести масштабные реформы погребальных практик после 1949 г. Жители Восточного Берлина помнили ужасы 1945 г. – похороны без гробов и слухи о сжигании тел совокупно, а не по отдельности, в крематории Баумшуленвега. Современники выражали опасения, смутно связанные с концентрационными лагерями и не позволявшие им кремировать умерших близких. Желание государства «рационализировать» практики смерти так или иначе спотыкалось о чувства ( sensibilities ) жителей, для многих из которых дешевые гробы казались угрозой благочестию, особенно после погребального кризиса. По крайней мере в 1950-х гг. новые социалистические похоронные ритуалы не прижились и нормой по-прежнему оставалось христианское погребение. Мне кажется, что у философии с предельно небольшим арсеналом представлений о загробной жизни было особенно мало шансов покорить жителей Восточного Берлина спустя какие-нибудь десять лет после Второй мировой войны, когда столь многие держались за веру – пусть слабую, пусть неоправданную, – что когда-нибудь они вновь увидят своих погибших или пропавших близких. Как заметил в 1959 г. Гюнтер Кеншерпер, свойственный его современникам «поиск смысла смерти» невозможно было удовлетворить революционными лозунгами. Отчасти это тоже ответ на вопрос, почему нацистские ритуалы смерти и идеи о ней находили, по-видимому, больший отклик у берлинцев в 1930 – 1940-х гг., чем коммунистические ритуалы и идеи в 1950-х: нацизм не стремился лишить смерть ее ауры. После двух катастрофических войн не так-то легко было принять жесткий отказ коммунистов наделять смерть каким бы то ни было смыслом.
Память о войне преследовала в первые послевоенные годы и жителей Западного Берлина. Хотя озабоченность военными захоронениями произрастала на Западе из иного комплекса идеологических соображений, нежели на Востоке, она вызывала разногласия и на Западе тоже. Для одних западноберлинцев военные захоронения были печальным и неприятным зрелищем, напоминанием о прошлом, от которого им хотелось освободиться. Для других они служили символом местной и личной истории. Более того, они содержали останки – мужчин и женщин, взрослых и детей, солдат и гражданских, – которые уже были когда-то выкопаны из земли и не один раз перезахоронены. Западная пресса критиковала коммунистов на Востоке за осквернение погибших в войну немцев и ругала чиновников ГДР за бесчувственность, которую те проявляли по отношению к выжившим; однако правительство Западного Берлина само убирало военные захоронения оттуда, где им не было места. Конечно, перезахоронения были мучительны для людей, однако создание по-настоящему окончательных мест последнего покоя для погибших в войну – когда, например, айхкампские мертвецы были перемещены на новое кладбище в Рулебене – и введение правил, регулирующих уход за этими могилами, явились, как я показала, способами, которыми живые могли вернуть себе контроль над умершими после ужасов массовой гибели.
Правда, этот процесс сопровождался немалыми разногласиями. Народный союз обвинил немцев в желании поскорее забыть о войне, а вместе с ней и об умерших. Кое-кто из западноберлинского духовенства беспокоился, что новая, более динамичная жизнь жителей Западного Берлина разрушает и обесценивает практики погребения. Разумеется, подобные мысли посещали духовенство уже очень давно. Мы словно слышим голоса веймарских пасторов, эхом раздающиеся в Восточном Берлине 1950-х гг. и твердящие, что похороны страдают от коммерциализации и недостаточной созерцательности. Но на самом деле жители Западного Берлина не забыли о мертвых, и по крайней мере в начале 1950-х гг. образы смерти, разрушения, боли и растерзанных тел проникали в популярную культуру весьма необычным образом – соседствуя с рекламой, изображающей красивую жизнь. К концу десятилетия, однако, отношение жителей Западного Берлина к жизни и смерти кардинально поменялось. Их отношение к смерти стало гораздо менее непосредственным, и к началу 1960-х гг. их самопонимание коренилось не столько в мрачных и аскетичных идеях о жертве и смерти, сколько в образах экономического процветания и успеха.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: