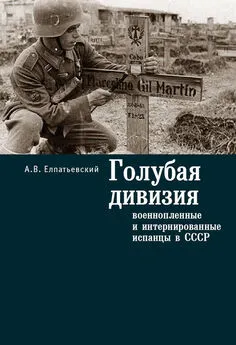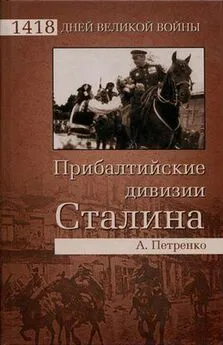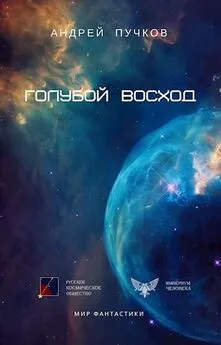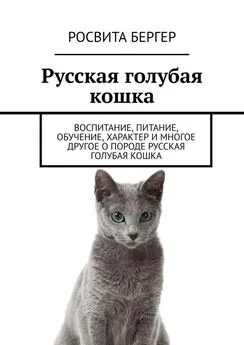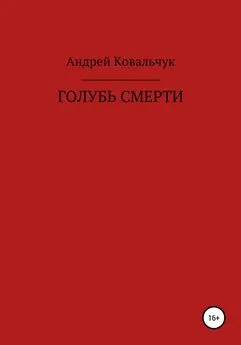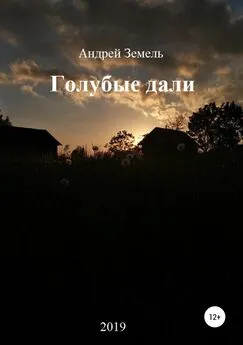Андрей Елпатьевский - Голубая Дивизия, военнопленные и интернированные испанцы в СССР
- Название:Голубая Дивизия, военнопленные и интернированные испанцы в СССР
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9905926-5-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Елпатьевский - Голубая Дивизия, военнопленные и интернированные испанцы в СССР краткое содержание
Книга, написанная на основании широкого круга источников – дневников и воспоминаний, архивных документов и публикаций, – рассказывает о судьбах испанцев, оказавшихся в СССР во время Второй мировой войны и проведших долгие годы в советских лагерях. Среди них были люди разных убеждений – фалангисты и республиканцы, антикоммунисты и антифашисты. Некоторым удалось вернуться на родину, многие умерли в заключении.
Важное место в монографии занимает история участников похода так называемой Голубой дивизии – испанских добровольцев, сражавшихся на стороне гитлеровских войск. Книга содержит подробную информацию о численности и составе дивизии, о количестве военнопленных и интернированных в СССР, умерших в лагерях и репатриированных. Особую историко-биографическую ценность представляет мартиролог Голубой дивизии, в котором указаны источники сведений о каждом погибшем.
Книга адресована специалистам-историкам и всем, кто интересуется историей Испании и России.
Голубая Дивизия, военнопленные и интернированные испанцы в СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что военное значение Голубой дивизии на Восточном фронте было для Германии невелико. Сам маршрут ее движения (Гродно – Лида – Вильнюс – Минск – Смоленск – Витебск – Новгород) – заставляет думать о том, что немецкое командование не очень представляло, что с нею делать (сведения в «Докладе» Совинформбюро о маршруте дивизии Сувалки-Витебск-Новгород не точны [35]и, возможно, верны лишь для какой– то ее части). Но, как подтверждает и дневник Ридруэхо, испанская дивизия принимала участие в военных действиях и, по – видимому, оказалась для Советской армии достаточно крепким орешком. Дивизионеры – только идейные фалангисты – сражались храбро и умело. В начале для них было характерно романтическое отношение к войне. Перед Витебском они наблюдали, как русский самолет, сбросив бомбы, уходил, невредимый, из – под обстрела немецких зенитных пушек: «Мы присутствуем с каким – то волнением при этой перипетии, и из чувства спортивной справедливости радуемся, что самолет не сбит. В этой войне масс личный подвиг еще сохраняет свой героический престиж, это еще ценится» (С. 113). После того как дивизия встала в Новгороде на боевую позицию, с середины октября 1941 г. для нее начались непосредственные боевые действия, о которых Ридру-эхо много говорит на страницах своего дневника, останавливаясь на вещах, особенно его поразивших. Так, он рассказывает о монастыре на окраине Новгорода, превращенном советскими властями в больницу для умалишенных, которых русские оставили, покинув город. Монастырь находился на ничьей земле, «и выстрелы двух артиллерий перекрещиваются над его башнями», а больные – голодные, покинутые и насмерть перепуганные – мечутся под пролетающими снарядами…» (С. 151).
Интересны сведения, сообщаемые Ридруэхо о русской армии, способах ведения ею боевых действий, ее оснащении и вооружении. Вот что он записывает 21 октября:
«Это, прежде всего, бесчисленная армия, что чувствуется даже в малом. Ни разу наши не сталкивались с ними в пропорции меньше 10 человек к одному. Иногда в соотношении еще более неблагоприятном для испанцев. Ее экипировка и вооружение, в целом, лучше, чем наши. Лучше обувь и шинели, безусловно, лучше шапки, вещевые мешки, наполненные салом, автоматическое оружие и винтовки дальнего боя (не менее одного ручного пулемета на каждые шесть человек, помимо пулеметов американского типа с тяжелым цилиндрическим охлаждением). Также они используют очень хорошие снаряды для мортир и превосходную и многочисленную артиллерию, преимущественно 11,40, которая уже известна в Испании и взрывная способность которой вошла в пословицу…» (С. 157).
Позже, в начале декабря, после неоднократных атак русскими силами позиции испанцев в Отенском монастыре, Ридруэхо снова возвращается к хорошей экипировке русских сибирских солдат:
«в превосходных сапогах и шапках и шинелях, грубых, но теплых. У них были вещевые мешки с ручными гранатами, а также с салом и другими предметами, предназначенными для холода, и с бутылками водки, которой напивались, бросаясь в атаку» (С. 239). «Вместе с тем, – продолжает Ридруэхо, – этому превосходству в экипировке сопутствуют весьма слабые методы ведения боя, что проявляется не только в стратегии, но и в тактике поведения в атаках и в обороне. Вообще это солдаты, которые действуют числом, поскольку у них нет каких-либо отрядов, обученных для внезапных атак и преследования, и только в массе они способны к решительным действиям. Они бросаются толпами и сотнями, наполовину ослепленные водкой, ужасно крича свое оглушительное «урра». Это зрелище устрашающее. Но если иметь крепкие нервы и подпустить их на расстояние верного выстрела, они не так опасны, как кажутся. Обстрелянные умелым ружейным или пулеметным огнем, их ряды редеют, и те, кто остается на ногах, теряют импульс, теряют чувство своей силы, почти всегда еще превосходящей, и отступают или сдаются. Они пасуют также перед смелой силой, хотя бы и немногочисленной. Холодное оружие их впечатляет особенно, и еще более, если кто-то на них нападает с пением. Петь и стремительно нападать с мачете – это уже «трюк» среди наших, подкрепленный хорошим опытом. Тем не менее, среди них есть храбрые офицеры – более храбрые, чем умелые, и храбрейшие политические комиссары. Известно, что в рядах русских очень строгая дисциплина и что часто после провалов применяются многочисленные расстрелы. Так понимается река человеческих жизней, которыми Россия заплатила за эту войну, теми людьми, для кого человеческая жизнь не является ни экономической, ни иной ценностью» (С. 157–158).
Много внимания уделяет Ридруэхо подробностям отчаянной защиты двух позиций – деревни Посад и Отенского монастыря, – в которой он лично участвовал до 8 декабря, пока не был эвакуирован в тыл по болезни (С. 189, 190, 192, 202–210, 215, 227). «Доклад» Совинформбюро также подробно описывает операции по освобождению от испанцев этих пунктов, подчеркивая большие потери Голубой дивизии, которой «немецкие войска не оказывали никакой поддержки…<���…> Понятно, почему офицеры – фалангисты и все эти продажные твари сражаются так упорно, но почему так сражаются простые солдаты?..» [36]. Думается, дневник Ридруэхо в какой– то степени отвечает на эти вопросы.
Интересны страницы, посвященные реакции дивизионеров на «красную пропаганду на кастельяно»:
«были различные увещания, в целом смешные, как все пропагандистские увещания, приглашающие нас к сдаче. Приводились различные аргументы. Русское превосходство и безусловный провал германцев и т. д., в изобилии и лесть, и обещания. Мы храбры, и потому уважаемы; мы сражаемся за идеал, простодушные и обманутые, и т. д. Нас уверяют в обращении достойном, любезном, добром со стороны врага и в немедленной отправке в страны по нашему желанию, включая и нашу собственную страну, при нашем обещании воздерживаться от героических авантюр. Великодушие русского народа и так далее… Приводится, наконец, свидетельство о превосходных условиях жизни и широкой свободе, о превосходном состоянии армии и благоволении властей к несчастным военнопленным, которые раньше были обмануты фалангой и немцами. Свидетельство подписано отпечатанными именами четырех или пяти наших ребят, действительно попавших во власть врага. К ним прибавлено два имени «перешедших добровольцев». Это реальный факт. Действительно, несколько солдат – четверо или пятеро на всю дивизию – перешли к врагу. Это не результат нервного кризиса. Дело идет о случаях преднамеренных. О коммунистах – людях героических, нужно признать это, – которые завербовались в наши ряды, чтобы достигнуть таким образом родины своих революционных мечтаний. Мы никогда не видели их потерявшими присутствие духа. Сомневаюсь, тем не менее, что их верность будет компенсирована» (С. 222–223).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: