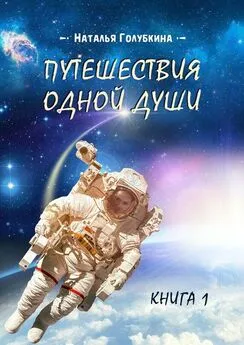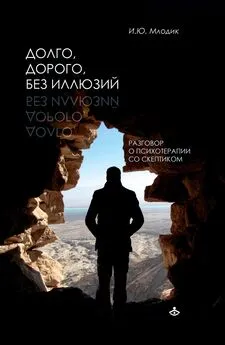Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале
- Название:Разговоры в зеркале
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0433-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале краткое содержание
«Разговоры в зеркале» – это беседы, проведенные в течение почти двадцати лет главным редактором русскоязычного израильского журнала «Зеркало» Ириной Врубель-Голубкиной, а также записи дискуссий, проходивших во время редакционных «круглых столов». В итоге получилась книга о русском авангарде. Собеседники рассказывают о своем видении искусства, делятся мыслями о прошлом и настоящем культуры, о проблемах современности. Среди них знаменитый коллекционер, текстолог и знаток отечественной поэзии Н. Харджиев, литературовед Э. Герштейн, действующие лица авангардного проекта следующих поколений – от Ст. Красовицкого, Вс. Некрасова, М. Гробмана, И. Кабакова до Саши Соколова и П. Пепперштейна.
Разговоры в зеркале - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Яков Шаус: Последние десятилетия двадцатого века в русской литературе были периодом использования самых разных способов письма. Было много очень интересного – на всех уровнях: от самых изобретательных стилевых экспериментов до попыток эксплуатировать масскультуру. В литературе, по моему наивному убеждению, чередуются периоды агрессивного отрицания «надоевшего» и, соответственно, интенсивного генерирования новых форм – и эпохи «опрощения». В какой-то момент литература вроде бы отказывается от нацеленности на новизну и как бы возвращается к «прежним ценностям». Но, конечно, все приобретения остаются с писателем – просто они не выставляются напоказ.
В поэзии последних десятилетий мы видели массу экспериментов. Но сегодня хочется возвращения к личному – тому, что всегда составляло сущность поэзии.
То же самое в прозе. Невозможно реанимировать старой модели романа, автор которого все знает о своих героях и сам за них все рассказывает. Рядовой читатель, сам того не подозревая, стал грамотней – так же, как самому необразованному, но просмотревшему сотни фильмов кинозрителю через сто лет после братьев Люмьер не надо объяснять, почему на экране «отрезанная голова», что такое наезд, монтаж. Даже «простая» проза сегодня очень уплотнена, многослойна. Но уже раздражают изящные цитаты, словесные кружева – испытываешь потребность в чем-то основательном, первичном – в романе как модели бытия. В наши дни в России все политизировано, а здесь, в Израиле, от политических пертурбаций вообще зависит твоя жизнь – в прямом и трагическом смысле. Я – за подпитку литературы самой актуальной политикой.
Михаил Гробман: Но при всем нашем желании, чтобы литература была качественной, существуют вещи, которые гораздо важней самой литературы, и именно они придают ей общественную значимость. Чтобы литература всерьез настигла читателя, она должна прежде всего иметь конкретное отношение к нашему существованию, к пространству, в котором мы находимся. Если этой связи нет, то литература может быть красивой, увлекательной, но живет она жизнью мотылька.
Все это очевидно, и потому я хотел бы обсудить две темы. Первая – это журнал «Зеркало», который в современной словесности ни на кого не похож. У него свой язык, свое концептуальное отношение к действительности и к письму. Как мы отбираем материалы для «Зеркала»? Почему одни тексты соответствуют нашим критериям, а другие отвергаются, хотя сделаны достаточно профессионально? Вторая тема: литература возникает на базе того, что мы проживаем и чего мы хотим от этой жизни. Без литературы, даже самой красивой, – как и без любого искусства – человек вроде бы может обойтись. Но, как только мы перестаем думать о том, что происходит с нами и нашим обществом, перестаем искать слова для выражения своих мыслей, наступает паралич личности.
Вопрос: как мы – литераторы круга «Зеркала» – определяем себя в пространстве современной литературы, как отделяем важное от банального?
И.В. – Г.: Что такое литература вообще и что такое русская литература? Что означает наша принадлежность к определенной культуре? Что собой представляем мы? Вопрос языка и стиля – один из главных в нашей ситуации. Мы знаем западную классику и модернизм, но остаемся людьми русской культуры. А то, что отдельные «знаковые» произведения современной литературы с опозданием дошли до людей, ничего не значит. Мы многое впитали не прямо, а опосредованно – из других книг, в которых были использованы находки писателей, запрещенных в Союзе. Многие прочли Селина поздно – и наряду с сильным впечатлением было ощущение знакомости текста. Мы сохраняем накопленный искусством опыт и развиваемся вместе с литературой.
Темы русской литературы и темы нашего русско-израильского существования – это то, что мы хотим понять и исследовать. И написать. Творчество невозможно без сознания уникальности твоей судьбы, твоей ситуации, твоего литературного жеста. Одна из главных составляющих нашей оригинальности – психология еврея, сформированного русской культурой и попавшего в контекст своего национального существования с русским опытом – и с русским языком.
Мы можем делать литературу на русском языке, содержание которой составляет проверка наших базовых понятий на границе между двумя культурами. Сегодня, когда в литературе, казалось бы, все проговорено, описано – и гуманизм, и политкорректность, – вдруг появились и интеллектуальные антагонизмы, и просто нечто звериное, созвучное самым жестоким эксцессам окружающей жизни. После торжества разума, либерализма опять из пещеры полез зверь, и мы тут – первые, на кого он полез. Мы можем это описать, причем именно мы – люди, не укладывающиеся в рамки местных обстоятельств, – способны осмыслить данное явление не на уровне межэтнического конфликта, не в сиюминутном политическом запале.
А.Г.: Я позволю себе вернуться непосредственно к литературе. Следя за литературными дискуссиями, появляющимися как в печатных изданиях, так и в Интернете, я с удивлением замечаю, что очень редко речь идет о самой литературе. Единственным отрадным и продуктивным исключением стала полемика между Александром Ивановым, главой издательства «Ad marginem», и прозаиком Ольгой Славниковой. Полемика, правда, была односторонней: Славникова написала статью, Иванов ей ответил.
Славникова выступила в защиту того, что «формалисты» называли «литературностью» литературы, – ее эстетической составляющей, особых выразительных средств, в частности метафоры. Она напомнила, что именно совокупность этих средств отличает литературу от нелитературных способов высказывания с их установкой на сообщение.
Иванов заявил, что эта позиция архаична и свидетельствует разве что о любви писательницы и ей подобных к литературе как таковой – что опять-таки старомодно. По его убеждению, надо отталкиваться от литературы – он привел хрестоматийные примеры, в том числе Льва Толстого, который в позднем творчестве низвергал кумиров и преодолевал «литературность». Иванов напомнил о нынешних опытах скрещивания литературы с массовым сознанием, рекламой, общественной мифологией – он считает этот путь единственно перспективным, позволяющим выйти на прямой контакт с миром, преодолев замкнутость, нарциссизм литературы (это пренебрежение напоминает о верленовском «Все прочее – литература», хотя у поэта смысл был иной).
В этой полемике я всецело на стороне тех, кого защищает Славникова. Мне кажется, что ситуация вновь перевернулась: литература – в уничижительном, верленовском, смысле, как штампованное писчебумажное производство, не цепляющее реальность, – имеет гораздо больше общего с тем, что прокламирует Александр Иванов. И стала она такой как раз вследствие одобряемых им и уже абсолютно приевшихся, весьма архаичных методов работы с материалом: клишированного оперирования общественными мифами, навязшего в зубах использования семиотики общества потребления с его газетами, телевидением и видео. Вся эта, как пишет Иванов, опора на знак, а не на символ, вполне истеблишизировалась и стала действительно литературой в кавычках. А радикальной, если угодно, революционной, линией является сейчас отстаивание собственно литературных средств выразительности. И в защиту этого, а отнюдь не в поддержку уорхоловских канонов, хороших сорок лет назад, отнюдь не сейчас, я хотел бы высказать несколько соображений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: