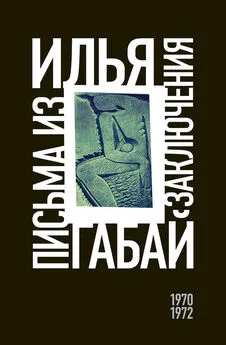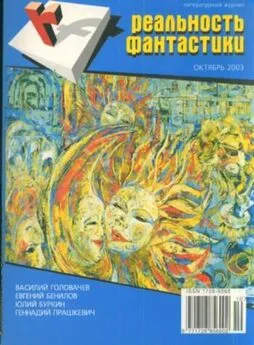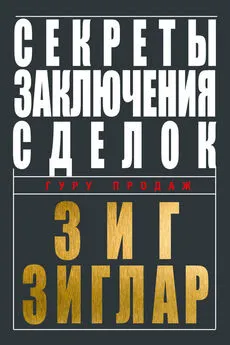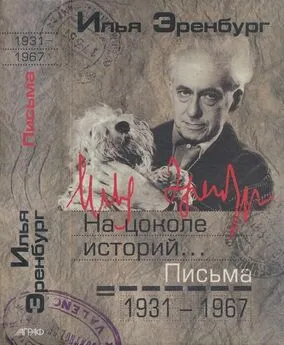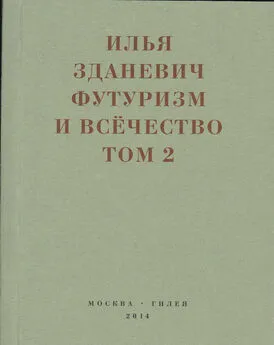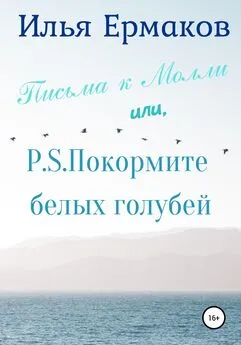Илья Габай - Письма из заключения (1970–1972)
- Название:Письма из заключения (1970–1972)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0417-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Габай - Письма из заключения (1970–1972) краткое содержание
Илья Габай (1935–1973) – активный участник правозащитного движения 1960–1970-х годов, педагог, поэт. В январе 1970 года он был осужден на три года заключения и отправлен в Кемеровский лагерь общего режима. В книге представлены замечательные письма И. Габая жене, сыну, соученикам и друзьям по Педагогическому институту (МГПИ им. Ленина), знакомым. В лагере родилась и его последняя поэма «Выбранные места», где автор в форме воображаемой переписки с друзьями заново осмысливал основные мотивы своей жизни и творчества. Читатель не сможет не оценить нравственный, интеллектуальный уровень автора, глубину его суждений о жизни, о литературе, его блистательный юмор. В книгу включено также последнее слово И. Габая на суде, которое не только не устарело, но и в наши дни читается как злободневная публицистика.
В оформлении обложки использован барельеф работы В. Сидура.
Фотографии на вклейке из домашних архивов.
Письма из заключения (1970–1972) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С тем я тебя, и Ирку, и всех родных целую.
Илья.
Герцену Копылову
6.5.71
Дорогой Гера!
Твое письмо очень обрадовало меня. Прежде всего я рад, что ты прочел мои отрывки, ну и, конечно, рад, что тебе понравились многие куски из них. Твое отношение мне тем более дорого, потому что ты перечислял в числе понравившихся тебе главок и те, которые вызывали у меня сомнения (все, написанные иным, чем б-во глав, размером – «Афродита», «Диалог № 1», о нас – о себе, конец). «Жама», конечно, описка. Жанна – имеется в виду Жанна д’Арк, которой житийная история отказала в женственности, обаянии, – «сгубили Киприду» (Афродиту) в ней. «С сменой кожи» – это уже не описка, а справедливо замеченный тобой ляп. Таких (отчасти из-за поспешной работы), видимо, немало; когда-нибудь надо будет засесть и за эти, и за другие более-менее ценные стихи с тем, чтобы их выправить. Здесь я вряд ли соберусь, а уж о том, чтобы писать новые – где уж там. «Норовить в лоб», как ты советуешь, – это не всегда возможно из-за сложности оттенков самого вопроса. Поэтому приходится, как ты, наверно, заметил, время от времени возвращаться к уже сказанному, уточнять, даже изменять. Я поэтому и выбрал условную форму переписки: она извиняет интимность, сентиментальность и дает право противоречить самому себе. Словом, вы, и ты в том числе, пролили некоторый бальзам на мою душу; остается дать полежать вещи и посмотреть, как она будет глядеться через несколько лет ‹…›
Стихов Волошина (этих) я не знаю; будет настроение – перепиши мне их в ближайших письмах. Впрочем, не означает ли твой отпуск перерыв в переписке? Было бы огорчительно; черкни мне на досуге, если уж одолеет лень, 1–2 открытки. Что касается стерженька, то я верю и надеюсь, что он не последний. Еще не вечер, как говаривает Георгий Борисович, который не пишет мне уже сто лет. Этого я тебе, собственно, и желаю на ближайшее время: хорошего отдыха и восстановления стержня.
Счастливо. Илья.
Галине Эдельман
9.5.71
Дорогая Галка!
Я тебе уже писал в предыдущем письме, что твои письма для меня неизменно праздничны. Остается повторить то же самое, разве что добавить, что последнее – празднично вдесятикрат. Я очень, очень рад, что ты так остро и доброжелательно восприняла мою работу – в первую очередь те главы, где наши судьбы и наши размышления каким-то образом пересекаются. В конце концов, может, это и не такая уж печальная планида самого дорогого мне из написанного, что они (стихи) предназначены вам всем и таким, как вам, если они дадут себе труд вчитаться. Крепить старый, чуть ширить его – круг близких – чего же лучше. Надо бы писать еще и писать, но я все-таки всегда остерегаюсь написать хуже и боюсь всяких вариантов инерций. Наверно, пока что на мой срок и этого достаточно; что-то вынесется, я надеюсь, и прояснится с моим приездом.
Вот такой трюизм: дважды нельзя войти в одну реку. Совсем так же – и правда, поди, нельзя, но я уверен – пусть без прежней легкости и веселости, – но вспять наша река не потечет и будем мы себе в нее погружаться неизменно и радостно. Это меня почему-то повело так сложно и витиевато говорить о простой и драгоценной вещи – сути наших всех, уже юбилейных взаимоотношений. Так я тебе отвечаю на родственное и мне нетерпение: поговорить. Меня очень обрадовала твоя приписка о Валерии: сам он, написав мне, поскупился на такие слова. Правильно, конечно; хотя чего там, они были бы мне приятны, тщеславия-то я не лишен.
Все-таки есть и в этой невозвратимости – общежития ли, Красноярска, чего угодно, – помимо естественной элегичности, и своя логика: не все же нам жить и чувствовать взаимную необходимость в легкости и праздничности. Вот, наверное, и худо, что последние (предпоследние) годы мы встречались по праздничным поводам, а жили совсем уж сами по себе. Надеюсь, это уж исправимо. О некоторых – из особенно близких нам – приходят какие-то глуховатые намеки; от этой глуховатости еще тревожнее. Галя Гладкова мне пишет, но редко что-то.
Пиши мне, как будут силы и время. Искать форм выражения, действительно, не надо: авось я уж тебя всегда пойму. Не худо бы, чтоб ты сообщала, кроме всего, как тебе работается, живется – тебе, да и другим людям, связи с которыми у меня нет.
Целую тебя и ребятишек. Илья.
Елене Гиляровой
12.5.71
Леночка!
Я очень рад, что ты с детьми едешь в свой богом благословенный край. Я жалею, что по ленивости бывал там не очень часто; но и того, что было, хватит для теплых и красивых воспоминаний ‹…›
Писал ли я тебе, что держал минут десять в руках 10-й номер «Юности» – специально, чтобы прочитать стихи Гены [131]. Все-таки у нынешних молодых куда большая культура чувств, нежели была у нас в свое время, о форме я не говорю. Стихи симпатичные, но и поколение симпатичное; есть ли здесь особые приметы, какой-то отпечаток если не личности, то причастности к кругу, – по этим стихам, немногим, мне судить трудно. Рад за него и за твою Иру.
Я написал тебе в прошлый раз о народовольцах примерно так, как думаю, но торопливо и как-то доктринерски. Конечно же, это горькая и благородная история; чем ранг меньше, тем иногда порывистее, чище, жертвеннее. Вспомнить хотя бы женщин на процессе 20, Гершковича, Любатович – жену Морозова. Еще я хочу сказать, что страна-то была, действительно, гадкая, подлая, делала все, чтобы создавать эти благородные этические двусмысленности (особенно – террор!). Карийская история меня совершенно потрясла (стыдно, но сахалинских работ Чехова я так и не удосужился прочесть, из-за беллетристических, «фельетонических», как сказал бы Герман Гессе, наклонностей в прошлом). Это я к тому, что бесовский результат предвидеть легко, но у нас нет никакого морального права (что иногда делается) называть Лебедеву или Сигиду «бесами». Если судить по какому-то неэстетическому эталону, то мне (по-человечески) куда дороже гениальных «Бесов» письмо Гершковича. Хотя, повторяю, в проекции эпох гений, конечно же, прав. Я сталкивался с попыткой создать идиллию из романовской России. Это обман все-таки (или самообман?).
Я упоминал чуть выше Гессе, книгу которого – о государстве-элите («Игра в бисер») – только прочел. Не могу сказать, что у меня восторженное отношение к художнику: ученость несколько портит; но как раз ученость – проблема интересная и решена в близком мне плане, с тем же ощущением сложности (я, еще не читая книгу, примерно так, с таких позиций и спорил с Марком в нескольких письмах; интересно, что и модель у нас совпадает: пример ученых занятий во время пожара именно).
«Лунина» я прочел и многим уже писал о ней. Материал богатый, умный: глубоко поучительный и современный. Кажется, все духовные «метания» пересекаются сейчас через одни и те же точки: нравственная примета времени. Нескромно, но мне кажется, что и тут я как-то самостоятельно и прежде чувствовал остроту проблемы. А вдруг как жизнь толкнет нас мордой в какую-нибудь конкретность – средневековый мор, например, или атомную войну – и все опять исчезнет? Но вообще «европеизм» в русской истории, католики – Чаадаев, Лунин, Печерин, – мы их открываем вновь, и это самые, может быть, сокровенные страницы. «Подвиг ожидания или подвиг нетерпения». То-то! Частность: мне кажется, что он позицию Пестеля объяснил надуманно. По-моему, тут, на следствии, весь и сказался «бес», вождь: дело проиграно, а до судеб дела нет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: