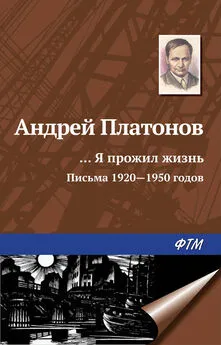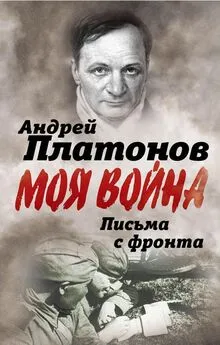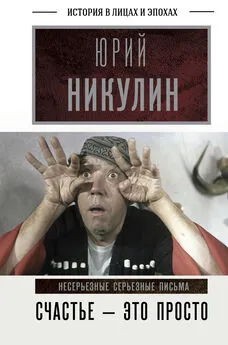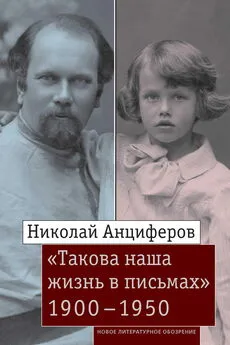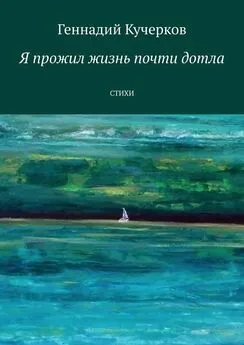Андрей Платонов - «…Я прожил жизнь» (письма, 1920–1950 годы)
- Название:«…Я прожил жизнь» (письма, 1920–1950 годы)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ФТМ
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4467-0518-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Платонов - «…Я прожил жизнь» (письма, 1920–1950 годы) краткое содержание
Впервые собранные в одном томе письма Платонова – бесценный первоисточник для понимания жизни и творчества автора «Чевенгура» и «Котлована», органическая часть наследия писателя, чей свободный художественный дар не могли остановить ни десятилетия запрета, ни трагические обстоятельства личной биографии. Перед нами – «тайное тайных» и одновременно уникальный документ эпохи.
«…Я прожил жизнь» (письма, 1920–1950 годы) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
427
Далее в автографе следовал недописанный и вычеркнутый фрагмент с перечислением ненапечатанных произведений: «(романы «Чевенгур» и «Котлован», рассказы, очерки, пьеса «Шарманка»)».
428
Литфонд – Литературный фонд, профсоюзная писательская организация, создан в 1927 г. Средства фонда формировались из отчислений писателей, объединенного госиздательства и дотаций Наркомпроса. Литфонд располагался в Доме Герцена (Тверской бульвар, д. 25).
429
Беляев Сергей Михайлович (1883–1953) – писатель, автор научнофантастической прозы. По первой профессии – врач (окончил медицинский факультет Юрьевского университета); совмещал врачебную практику с литературной работой. Речь идет о Лечебной комиссии Литфонда, в которой работал Беляев; в июле 1931 г. был избран в правление Литфонда.
430
Алексеев Михаил Алексеевич – председатель Литфонда РСФСР.
431
Аболин – неустановленное лицо.
432
Литвин-Молотов Г. З.
433
Судя по письму, Мария Александровна уехала из Москвы 4–5 июня, перед началом кампании критики «Впрок» (см. прим. 2 к п. 151).
434
10 июня «Литературная газета» опубликовала большую статью одного из ведущих пролетарских критиков А. Селивановского «В чем «сомневается» Андрей Платонов». Проведя социологический анализ фигуры «душевного бедняка» и основных крамольных эпизодов повести, Селивановский (вслед за статьей Л. Авербаха о рассказе «Усомнившийся Макар» – «Об общих масштабах и частных Макарах», 1929) так резюмировал смысл творческого пути Платоновапрозаика: «Платонов есть «анархиствующий обыватель», все более отчетливо превращающийся на деле в литературного подкулачника. Юродствуя и кривляясь, он дал себе правильную характеристику. Путь от «ЧЧО» и «Усомнившегося Макара» к «Бедняцкой повести» завершен. Этот путь является одновременно и путем творческого вырождения Платонова: убогое, утомительное, повторяющее себя юродство – таков стиль произведения, именуемого «Впрок»». Статья завершалась осуждением редакции опубликовавшего повесть журнала и почти ультимативным требованием: «Редакция. // «Красной нови» совершила грубейшую ошибку. Будем ждать ее исправления» (ЛГ. 1931. 10 июня. С. 3).
435
Письмо с отречением «от всей своей прошлой литературно-художественной деятельности, выраженной как в напечатанных произведениях, так и в ненапечатанных произведениях», уже было написано; см. п. 152 от 9 июня 1931.
436
Письмо Платонова не было опубликовано в газетах.
437
Речь идет о поездке Платонова на юг от Общества краеведов, с которым он активно сотрудничал.
438
Сестра Мария Александровны Валентина вышла замуж за москвича и инженера П. А. Трошкина.
439
Мать Марии Александровны – Мария Емельяновна Кашинцева – в это время жила в Ленинграде.
440
Новая редакция письма составлена после публикации в центральных газетах первых откликов на повесть «Впрок»: статьи члена правления РАППа и редколлегии «Литературной газеты» А. Селивановского «В чем «сомневается» Андрей Платонов» (ЛГ. 1931. 10 июня. С. 3) и партийного критика Д. Ханина «Пасквиль на колхозную деревню» (За коммунистическое просвещение. 1931. 12 июня. С. 2). Не исключено, что Селивановский ознакомился с первым письмом Платонова, выполненным в откровенно «юродской» стилистике, что нашло отражение в формулировках его статьи: «Сей «душевный бедняк», «единственное имущество которого – сомнение», полно и всесторонне развивает мысли Андрея Платонова последнего периода его литературной работы, и мы можем в данном случае, ни в малой степени не опасаясь вульгаризации, поставить знак равенства между автором и лицом, ведущим повествование в «Бедняцкой хронике»». Статья второго рецензента, постоянного автора рапповских изданий и представителя агитпропа ЦК ВЛКСМ, напечатана в правительственной газете (орган ЦК Союза работников просвещения СССР) и представляет первый развернутый социально-политический анализ повести Платонова. Именно вторая статья, с которой Платонов, безусловно, ознакомился, определила характер корректив и исправлений, внесенных им в новую редакцию письма. В первой главе статьи («Человек прохожий») критик сразу снял литературный вопрос об авторе и герое повести и поставил знак равенства между «душевным бедняком» и автором: «Оставим путника в стороне. Его глаза – это глаза Платонова. Здесь полное тождество автора и героя, которого, собственно, нет. Да и сам автор быстро отмахивается от подставного путника, ведя рассказ от первого лица. Это Платонов едет по колхозным полям и свои впечатления описывает». Критик не ставит под сомнение ни талант Платонова (в отличие от других), ни его искренность и во второй главе («О классовой правде») переводит вопрос о содержании повести в социологическую плоскость: «Искренний путник говорит правду. Но вправе спросить читателя: о какой правде идет речь? Ибо нет абсолютной правды, абсолютной оценки явлений. […] Нет абсолютной правды, есть правда классовая. Одна правда у рыцаря, тешащегося погоней за крестьянами, другая – у гонимого рыцарем крестьянина; одна правда у рабочего, выбивающего из Кремля офицеров, другая правда у офицера, выбиваемого из своего убежища; одна правда у бедняка и середняка, идущего в колхоз, другая – у кулака, которому строительство колхозов несет гибель. Какая же правда у Платонова, бредущего по колхозным полям? Глазами какого класса смотрит она на перестройку деревни?» Третья глава уже своим названием («Чужими глазами») дает ответ на поставленный вопрос. Проанализировав эпизоды повести и ее героев, критик резонно заключает, что Платонов видит в коллективизирующейся деревне только уродливые стороны и перегибы коллективизации, представляет последнюю «дикой, странной и непонятной», в результате чего объективно получилось, что колхозная волна ничего хорошего в деревню не принесла: «Партия, партийная организация отсутствует. Она не организует, не руководит движением. Гдето есть рик, но директивы его деревне не подходят, деревня живет вопреки им». В заключительной главе статьи («Удар в спину») критик погружает этот вполне справедливый социологический вывод о содержании повести в политический контекст лета-осени 1931 г. (см. прим. 3 к п. 152). Платонов написал правдивую повесть, но это, с точки зрения генеральной линии партии, «правда классового врага»: «Это – правда человека, воспринимающего массовый прилив в колхозы как нелепость, дикое насилие над крестьянской волей, стремлениями, привычками. Вздыбили деревню – и ходит она взбаламученная, неспокойная, волнующаяся, а для чего вздыбили – неизвестно, что из этого выйдет – неизвестно. […]. // Именно этим словом – пасквиль – вынуждены мы назвать произведение Платонова. Колхозная деревня показана в нем, как в кривом зеркале, действительность преображена так, что она звучит лживо для нас и правдиво для классово чуждых нам людей. […] острие его сатиры направлено не против врагов колхозного строительства, а против самого строительства. // Вместо «бедняцкой хроники», вместо правдивого рассказа о великом движении к новой жизни, охватившем многомиллионное крестьянство, получилось злое и уродливое отображение перегибов, глупостей, издевательств и ошибок. И все это подается как искреннее, правдивое описание колхозной стройки. Чья это искренность? Чья это правдивость? […] Его устами говорит правда классового врага – это кулак, ненавидящий колхозную стройку, водил его пером. […]. // Рассказ-пасквиль. Его помещение на страницах «Красной нови» – серьезная политическая ошибка редакции журнала. […]. // Против нас – весь капиталистический мир. Против нас – остатки капитализма внутри страны. И когда из наших же рядов люди, вместе с нами строящие, внезапно обрушивают удар против нас, мы должны ответить двойным ударом. // Ибо – это удар в спину, неожиданный, а потому и опасный. Однако Платонов опубликовал в «Октябре» рассказ «Усомнившийся Макар», вызвавший отпор советской общественности. Удар, как видно, не был усвоен писателем и не пошел ему впрок. Так и запишем».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: