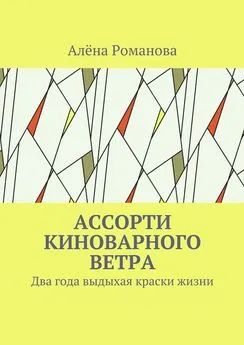Игорь Суриков - Восемьдесят два года жизни в России
- Название:Восемьдесят два года жизни в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Литературная Республика»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7949-0370-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Суриков - Восемьдесят два года жизни в России краткое содержание
Восемьдесят два года жизни в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В первой половине 1943 г. мы переехали ближе к районному центру Тоншаево, в деревню Ложкари. Нас поселили у бездетной четы Жарковских. Летом я занимался своим огородом. Участвовал в колхозных работах: погонял лошадь на жатве, теребил лен, метал копну и т. д. Заработал несколько трудодней. Летом 1943 г. ходил за грибами, сдавал их на заготовительный пункт и впервые заработал немного соли. Питались мы в Усково и Ложкарях неважно. В Ложкарях в муку добавляли тертые сухие головки клевера. Часто ели гороховый и овсяный кисель с льняным маслом. В Ложкарях у мамы и у меня были какие-то, видимо трофические язвы на ногах, долго не заживавшие. Мама работала счетоводом. В Ложкари к нам приезжал на несколько дней папа. В 1943 г. его взяли в армию, отправив на какие-то курсы. В Ложкарях я видел, как давят льняное семя и получают масло, гонят мед из сот в крутильном аппарате. Перечитал книги по свиноводству, птицеводству, пчеловодству и другие, бывшие в конторе колхоза. Возможно, все это способствовало тому, что впоследствии я выбрал профессию биолога. Завел кролика и выщипывал у него пух, пока он не сбежал от меня. В 5-й класс я так и не ходил, а сдал экзамены за него экстерном в Тоншаево. Осенью мама пыталась устроить меня на квартиру учительницы в райцентре с тем, чтобы я ходил в 6-й класс. Но я очень скоро ушел домой пешком.
Осенью 1943 г. мы переехали в Торжок. Помню, что на станции Шахунья была очень трудная посадка на поезд. Какие-то аферисты взялись посадить нас и украли некоторые вещи. В Торжке мы поселились у тети Кати Федухиной, маминой сестры, на ул. Дзержинского, 34. Я учился в 6-м классе школы у сквера с памятником Ленину, указующего на тюрьму. В школе один год зубрил немецкий язык. В начале 1944 г. сняли блокаду Ленинграда, а 13 июля мы вернулись после трехлетнего отсутствия домой в свою комнату на Рылеевой. Ленинград поразил тишиной и пустынностью. Как мне показалось, разрушений в городе было не так уж много. Он не производил впечатления лежащего в руинах. Все-таки его удалось не только отстоять, но и сохранить. Разрушенные отдельные дома были на ул. Рылеевой, на Моховой и на других улицах. Они были огорожены заборами и не производили удручающего впечатления.
В нашем доме, как и в других домах Ленинграда, были коммунальные квартиры, все жильцы которых вымерли в годы блокады. Дворники знали такие квартиры, и тогда можно было за небольшую взятку занять квартиру. Но моя мать оказалась недостаточно предприимчивой, чтобы сделать это, и мы остались в маленькой 17-метровой комнате. Мама стала работать экспедитором в столовой Ленэнерго на Марсовом поле. Это позволяло иметь небольшое количество еды помимо продуктовых карточек. Отец был на фронте, часто писал нам письма. С 1944 г. я начал вести дневник, сохранив эту привычку с небольшими перерывами на всю жизнь.
В сентябре я пошел учиться в 7-й класс 203-й школы Ленинграда, а брат Олег в 1-й класс этой же школы. Эта старинная школа возникла еще в 1722 году вслед за другой подобной школой Петершуле в Санкт-Петербурге. Ее основателем был немецкий пастор Иоганн Леонард Шаттер. В 1736 году школа была учреждена официально. Императрица Анна Иоанновна дала на это свое разрешение. Это описано в книге Архангельского «Анненшуле сквозь три столетия», Санкт-Петербург, 2004. Школа в 1944 году находилась (а ее здание находится и сейчас) рядом с кинотеатром Спартак (бывшее здание кирхи Святой Анны).
9 мая 1945 г. закончилась война.
2
Послевоенная юность 1945–1953 гг
Летом 1945 г. наша семья из Ленинграда никуда не уезжала. Мама работала по-прежнему в столовой Ленэнерго, обеспечивая нас питанием. Отца перевели в город Болград Измайловской области, где он ждал демобилизации. В начале 1946 г. отца демобилизовали, и он вернулся в Ленинград. Летом мы всей семьей полетели на самолете в Крым (летели на «Дугласе» с посадкой в Курске) в Ялту к тете А.И.Демидовой. Пытались там закрепиться жить, но, встретив ряд препятствий, с облегчением отказались от этой затеи. В Ялте я болел, плохо адаптируясь к климату и питанию. Совершил вместе с двоюродным братом Анатолием Демидовым ряд походов в горы, в том числе на гору Ай-Петри. Приобрел опыт торговли шелковицей на базаре. Посетил дом-музей Чехова, Никитский Ботанический Сад. В середине июля мы уехали поездом на север, домой.
После поездки в Крым произошла смена жизненных ориентиров семьи. Зимой 1946/1947 гг. родители купили дом с участком в Терийоках недалеко от Ленинграда. Терийоки – финское название. После финской войны и присоединения Карельского перешейка к СССР поселок назвали Зеленогорском. Но в 1947 году старое название еще помнили и употребляли. 1947 год прошел под знаком освоения дома и участка в Терийоках, а также в заботах о хлебе насущном, не считая учебы, к которой я относился достаточно серьезно. Проблема недоедания, постоянного желания насытиться мучила нас особенно весной. Ели крапиву, картофельные очистки, отруби. Пытались заработать денег на перепродаже обоев, черники, отец ремонтировал для продажи велосипеды, пианино. На заработанные деньги покупали коммерческие продукты в дополнение к скудному обеспечению карточками. Завели скотину: сначала козу Машку, купленную в Гатчине под Ленинградом, затем корову Лысеху, купленную отцом в Торжке. В декабре пережили денежную реформу, потеряв немного денег, вырученных за продажу швейной машинки. Точнее мы накупили на них вина, встретив во всеоружии Новый Год. С сентября я стал жить один в Ленинграде на ул. Рылеева, посещая 10-й класс. Скучал по своим и нетерпеливо ждал встречи по выходным дням. Отец устроился работать в Терийоках, был председателем районного комитета Добровольного Общества Содействия Армии Авиации и Флоту. Олег 4-й класс учился там же. В ноябре я первый раз обрил усы. Начал собирать свою библиотеку, купив в качестве первой книги «Падение Парижа» Ильи Эренбурга. Дважды, весной в мае на Рылееву и осенью в октябре в Терийоки к нам на несколько дней приезжал дедушка Василий Дмитриевич Сретенский. Тогда я видел его в первый и последний раз.
Вспоминаю, как в один из пасмурных дней февраля 1948 года ко мне на улицу Рылеева пришел мой одноклассник Виктор Корчной. Вернее это не я помню, а мой дневник содержит запись об этом эпизоде. Тогда я что-то растолковывал ему из черчения и астрономии. Было еще далеко до времени, когда звезда Корчного засверкала на небосклоне шахматных баталий. Впрочем, это неверно. Уже в 10-м классе, т. е. в 1948 г., Корчной завоевал звание чемпиона СССР по шахматам среди юношей. Это был год окончания школы, после которого наши пути разошлись. Корчной поступил на исторический факультет Ленинградского Университета, а я стал студентом того же вуза, но на биолого-почвенном факультете. Далее я, как и все мои одноклассники, с нарастающим интересом следил за судьбой Виктора. А она складывалась очень причудливым, необычным образом. Неоднократный чемпион СССР по шахматам, молодой гроссмейстер, претендент на мировую шахматную корону, своеобразный шахматный борец, похожий только на самого себя, объект преследования со стороны властей нашей страны, невозвращенец, оставшийся на Западе для продолжения своей шахматной карьеры, наконец, шахматный долгожитель, продолжающий удивлять мир своим творчеством. Все это мой одноклассник Виктор Львович Корчной. Он оказался самым ярким явлением среди моих товарищей по школе, самым известным и замечательным из учеников нашего класса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: