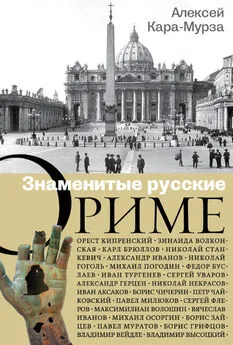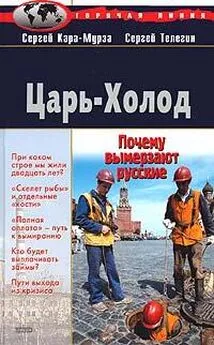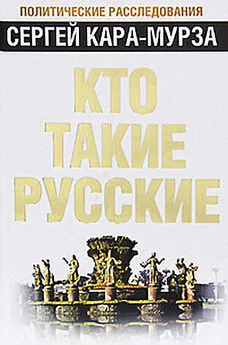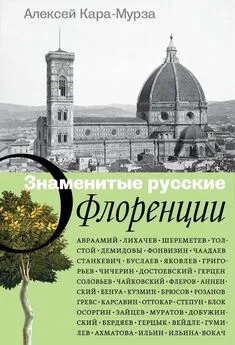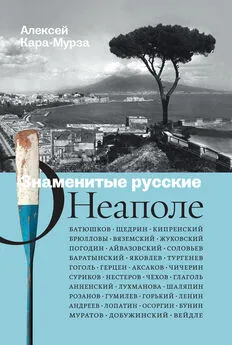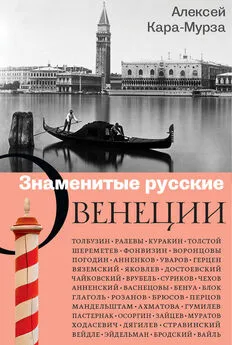Алексей Кара-Мурза - Знаменитые русские о Риме
- Название:Знаменитые русские о Риме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ИОМ»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98695-069-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Кара-Мурза - Знаменитые русские о Риме краткое содержание
Знаменитые русские о Риме - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Русский Рим – это еще и русский характер, и русский размах в Риме. И это касается не только традиционных примеров «купецкого разгула», но и частных эпизодов из жизни таких, чаще всего рисуемых угрюмыми и нелюдимыми, персонажей, как, например, наш великий Гоголь. В конце жизни он сам как-то признался А. Смирновой, что не может без содрогания вспоминать, как однажды в Риме он, молодой, вместе с Жуковским, рискнул обойти на огромной высоте еще не забранный тогда решеткой внутренний карниз под самым куполом собора Св. Петра…
А вот еще один, рассказанный уже Анненковым, гоголевский эпизод, как тот однажды, после удачной утренней работы над «Мертвыми душами», веселый и возбужденный, предложил пойти прогуляться в сады Людовизи: «Гоголь взял с собой зонтик на всякий случай, и как только повернули мы налево от дворца Барберини в глухой переулок, он принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец, пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком в воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял обломленную часть и продолжал песню».
Вообще, русская песня в Риме – это отдельная тема, кочующая по мемуарной литературе. Историк Михаил Погодин вспоминал, как они вместе с тем же Гоголем, Александром Ивановым и целой толпой других русских художников вышли после православного пасхального богослужения в церкви русского посольства на Форум Траяна и хором запели… Через много лет, перед мировой войной, последние дореволюционные русские экскурсанты в Риме, во главе с местным «старожилом» писателем Михаилом Осоргиным, во все горло распевали в ночном Колизее «Вниз по матушке по Волге»…
В русской привязанности к Риму есть не только понятная жажда знания и творчества, но и классическое русское чувство «жизни над бездной» и «удержания на краю». Гоголь как-то написал: «Когда вам все изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что бы привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию». И опять поразительно конгениален ему (с разницей в десять лет) – Герцен: «Когда мучительное сомнение в жизни точит сердце, когда перестаешь верить, чтоб люди могли быть годны на что-либо путное, когда самому становится противно и совестно жить, – я советую идти в Ватикан. Там человек успокоится и снова что-нибудь благословит в жизни».
Отсюда таким понятным и естественным выглядит стремление многих великих (равно как и невеликих) русских навечно остаться связанными с Римом – хотя бы узами смерти. «Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к божеству», – повторял Гоголь. А Карл Брюллов в набросках своей последней картины «Диана на крыльях Ночи» даже отметил место на римском кладбище Тестаччо, где хотел бы быть похороненным, – его завещание было исполнено. Михаил Осоргин, гуляя там же, на Тестаччо, под сенью пирамиды Кая Цестия, размышлял о «великой чести покойным и гордым лежать здесь».
Да, именно здесь возникает, наверное, конечный в цепи парадоксов на тему «русского Рима»: Вечный город все чаще и настойчивее воспринимается отечественным сознанием как «родина русской души». Первым это почувствовал опять-таки Гоголь, который ощутил Рим как «родину души своей… где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет…» Это ощущение передал позднее Валерий Брюсов:
Не как пришлец на римский форум
Я приходил – в страну могил,
Но как в знакомый мир, с которым
Одной душой когда-то жил.
Можно, наверное, возразить, что о Риме как «родине души» писал и английский лорд Байрон. Но есть «motherhood of the soul» отдельного талантливого и мятущегося человека – и есть «родина души» талантливого и нереализовавшегося народа. Часто цитируемый в этой книге Владимир Вейдле высказал как-то мысль о том, что Россия в мировой истории пока еще «не состоялась», «не удалась» – в том смысле, в каком состоялись и удались (что бы уже ни случилось с ними потом) Италия, Англия или Франция. Ибо Россия, в отличие от этих стран, еще не создала «всесторонней, последовательной, цельной и единой национальной культуры; ее история прерывиста, и то лучшее, что она породила за девятьсот лет, хотя и не бессвязно, но связано лишь единством рождающей земли, а не преемственностью наследуемой культуры (курсив мой. – А. К.)». А это означает нечто весьма серьезное – что культура очень часто создается не только вне «земли», но подчас и «вопреки земле». Как никто понимавший эту тему, русский изгнанник Иосиф Бродский сказал однажды жестко, но точно, что если бы Пушкин не попробовал переводить Данте, а Гоголь не жил бы на улице Систина в Риме, «мы все еще пережевывали бы традиции русской народной сказки».
Кстати, и сам Гоголь не раз лично подтверждал это – например, когда в январе 1842 г. писал из Москвы А. Максимовичу о невозможности работать в России: «Голова у меня одеревенела и ошеломлена так, что я ничего не в состоянии делать, – не в состоянии даже чувствовать, что ничего не делаю. Если бы ты знал, как тягостно мое существование здесь, в моем отечестве. Жду и не дождусь весны и поры ехать в мой Рим, в мой рай, где я почувствую вновь свежесть и силы, охладевающие здесь…»
Поэтому не только о личном ощущении, но в первую очередь о национальном чувстве написаны парадоксальные, но глубоко верные строки «русского римлянина» и большого патриота России Михаила Осоргина: «Любовь к Риму – это любовь к родине; тоска по Риму – это тоска по родине…»
Часть первая
Знаменитые русские в Риме
Орест Адамович Кипренский
Орест Адамович Кипренский (24.03.1782, мыза Нежинская, близ Копорья, Петербургская губ. – 24.10. 1836, Рим) – художник. Выходец из семьи крепостных. Окончил Академию художеств с Большой золотой медалью, однако полагающаяся ему заграничная стажировка из-за сложной международной обстановки была тогда отменена. В начале XIX в. прославился в качестве блестящего художника-портретиста, «русского Ван Дейка», наследника лучших традиций Рокотова, Левицкого, Боровиковского.
Весной 1816 г., будучи уже известным художником, академиком и советником Академии художеств (заслужившим, согласно петровской табели о рангах, потомственное дворянство), тридцатичетырехлетний Кипренский выехал в Италию в качестве пенсионера императрицы Елизаветы Алексеевны. Добрался морем до Травемюнде, потом почтовой каретой через Германию и Швейцарию, через Милан, Парму, Модену и Геную, в середине октября 1816 г. прибыл во Флоренцию. Затем в сопровождении своего знакомого, крупного вельможи и покровителя искусств Александра Львовича Нарышкина, много лет прожившего в Италии, приехал в Рим вечером 26 октября 1816 г.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: