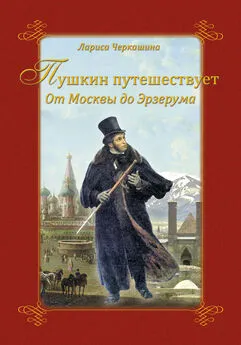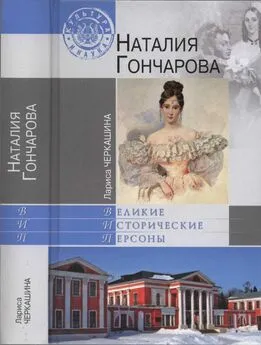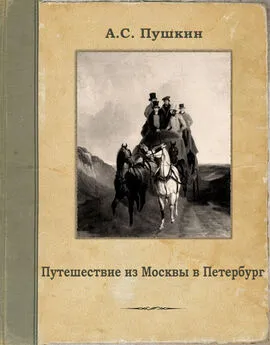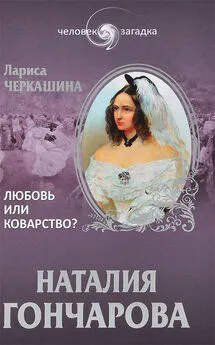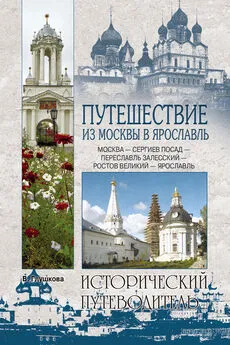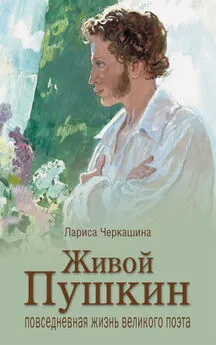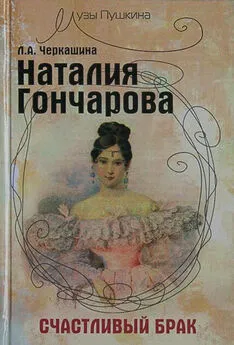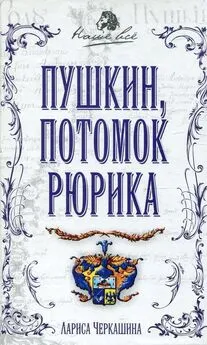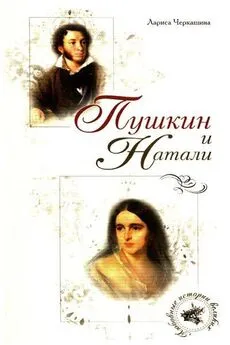Лариса Черкашина - Пушкин путешествует. От Москвы до Эрзерума
- Название:Пушкин путешествует. От Москвы до Эрзерума
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Вече»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9533-6691-5,978-5-4444-8086-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лариса Черкашина - Пушкин путешествует. От Москвы до Эрзерума краткое содержание
Книга «Пушкин путешествует. От Москвы до Эрзерума» состоит из двух частей: «Земные странствия поэта» и «Путешествия во времени и пространстве».
Удивительно, первый наш «невыездной» поэт, Пушкин, грезивший о «чуждых странах», уже после земной жизни словно побывал в них. Гению многое дано предвидеть. Но даже Пушкин, предсказавший себе всероссийскую и европейскую славу, не мог и помыслить, что его герои «заговорят» почти на всех языках мира!
Великий путешественник Пушкин: его странствия вне времени и земных границ продолжаются.
Пушкин путешествует. От Москвы до Эрзерума - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По счастью, это ему удалось.
Дорожная муза
«Я и в коляске сочиняю»
Муза была благосклонна к страннику-поэту: не изведать, сколь много вдохновенных строк родилось под цокот лошадиных копыт и перестук колес… И сколько дорожных впечатлений, уже позже, – в кабинете или «в постеле», – «проросли» в живой стихотворной ткани пушкинских шедевров?
«Подъезжая под Ижоры»
В январе нового 1829-го в Старицах царило веселье – давали святочные балы. И Александр Сергеевич принимал в них самое деятельное участие: много танцевал, не скупился на комплименты провинциальным барышням и усердно ухаживал за синеглазой Катенькой Вельяшевой, дочерью старицкого исправника. На обратном пути из Старицы в Петербург Пушкин сочинил ей игривое посвящение:
Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.
Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии Тверской,
Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел.
Упиваясь неприятно
Хмелем светской суеты,
Позабуду, вероятно,
Ваши милые черты,
Легкий стан, движений стройность,
Осторожный разговор,
Эту скромную спокойность,
Хитрый смех и хитрый взор.
Если ж нет… по прежню следу
В ваши мирные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до ноября.
В Петербург Пушкин возвращался вместе с приятелем Алексеем Вульфом, и некоторые строки, забавляясь, сочиняли вместе. Поэт в «авторстве» «любезному Ловласу Николаевичу» не отказывал. И не только ему, но и дядюшке, добрейшему Павлу Ивановичу Вульфу, «приложившему руку» к созданию «дорожного» шедевра.
«Павел Иванович стихотворствует с отличным успехом. На днях исправил он наши общие стихи следующим образом:
Подъезжая под Ижоры
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза»,
– сообщает приятелю Пушкин осенью того же года из Малинников, куда «своротил» по дороге из Арзрума в Петербург. И замечает: «Не правда ли, что это очень мило».
«Любезная калмычка»
Весна 1829-го ознаменована стихами, родившимися в дороге. По признанию поэта, послание к калмычке набросал он «на одной из кавказских станций». Степную красавицу Пушкин повстречал в середине мая по пути в Арзрум, где-то под Георгиевском, и во всех подробностях описал свое приключение:
«На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. “Как тебя зовут?” – ***. “Сколько тебе лет?” – “Десять и восемь”. – “Что ты шьешь?” – “Портка”. – “Кому?” – “Себя”. – Она подала мне свою трубку и стала завтракать. <���…> Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки – и поехал от степной Цирцеи».

Портрет калмычки Бяусты.
Художник О. Кипренский
А в черновой рукописи есть «расшифровка» того «кокетства», чем юная кочевница так напугала гостя. Отведав из котла чаю с бараньим жиром, приведшим его в ужас, Пушкин, по его же замечанию, с любопытством, простительным путешественнику, решился «на некоторое вознаграждение»… «Но моя гордая красавица ударила меня по голове мусикийским орудием подобным нашей балалайке. – Калмыцкая любезность мне надоела, я выбрался из кибитки и поехал далее. Вот к ней послание, которое вероятно никогда до нее не дойдет…»
Прощай, любезная калмычка!
Чуть-чуть, назло моих затей,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Вслед за кибиткою твоей.
Твои глаза конечно узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног;
По-английски пред самоваром
Узором хлеба не крошишь,
Не восхищаешься Сен-Маром,
Слегка Шекспира не ценишь,
Не погружаешься в мечтанье,
Когда нет мысли в голове,
Не распеваешь: Ma dov’é,
Галоп не прыгаешь в собранье.
Что нужды? – Ровно полчаса,
Пока коней мне запрягали,
Мне ум и сердце занимали
Твой взор и дикая краса.
На беловой рукописи сохранилась помета: «22 мая 1829. Кап-Кой». (Кап-Кой – старое название Владикавказа.) Все же не поэтических «полчаса», а ровно неделю «дикая краса» занимала воображение путника-поэта.
… Поэтическое послание, вопреки уверениям Пушкина, дошло до адресата. Только не до безымянной степной красавицы, а ее титулованной землячки – калмыцкой княжны Марины Тундутовой, пленившей сердце праправнука поэта и его тезки Александра Гревеница. Любовная история случилась в середине двадцатого столетия в одном из городков Бельгии. В счастливом супружестве появились на свет дети, облеченные баронским титулом, – София и Сергей: на могучем пушкинском древе «произросла» и «калмыцкая ветвь».
Вот оно, чудесное продолжение давней встречи поэта: кочевая калмыцкая кибитка «докатилась» до бельгийского королевства!
«На холмах Грузии»
В мае 1829-го в предгорьях Северного Кавказа, за несколько дней до своего тридцатилетия, Александр Пушкин написал строки, которым в грядущем, как и их творцу, суждено будет обрести бессмертие.
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.
Кому посвящена эта божественная элегия, музыкой льющиеся стихи? «Тобой, одной тобой». Каким бесспорным кажется ответ! Конечно же, юной невесте поэта, оставленной в Москве.
Натали. Невеста ли? Как мучительна неопределенность! Горькое и сладостное чувство одновременно. Отказано в ее руке под благовидным предлогом – слишком молода – и одновременно подарена слабая надежда. Неудавшееся сватовство. Душевное потрясение поэта так велико, что ни на день, ни на час он уже не может оставаться в Москве! Все решилось будто само собой первого мая. Получив от свата Толстого ответ,
Пушкин не медлил: в ту же ночь дорожная коляска выехала за городскую заставу, и московские купола и колокольни растаяли в предрассветной мгле.
Путь Пушкина лежал на Кавказ, куда он не мог попасть, как верный подданный, посылая письма генералу Бенкендорфу и испрашивая разрешения у своего венценосного цензора стать «свидетелем войны». А тут, словно свыше, пришло решение: Кавказ как спасение от душевной муки, Кавказ как самое горячее место империи, где в схватках с воинственными горцами вершилась на глазах история России.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: