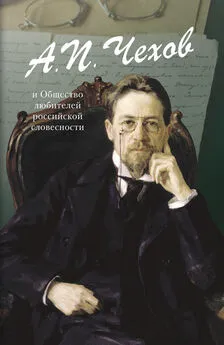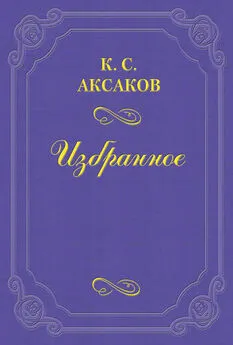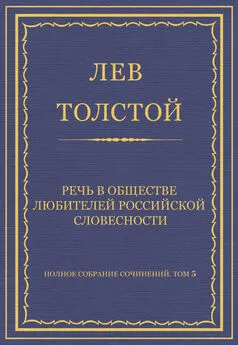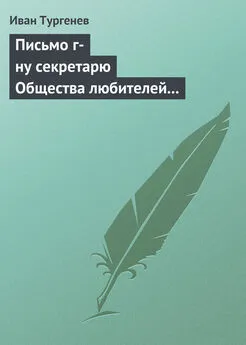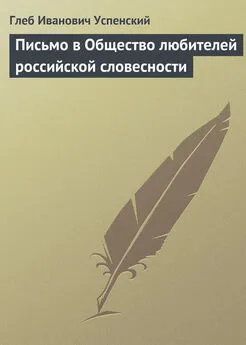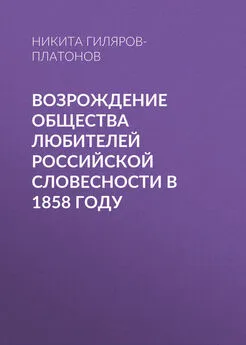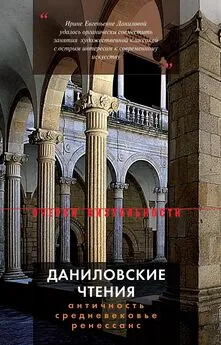Array Коллектив авторов - Чехов А.П. и Общество любителей российской словесности (сборник)
- Название:Чехов А.П. и Общество любителей российской словесности (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Белый город
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7793-2456-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Чехов А.П. и Общество любителей российской словесности (сборник) краткое содержание
Для преподавателей вузов, учителей-словесников, историков русской литературы, студентов и школьников, подлинных ценителей творчества великого мастера.
Чехов А.П. и Общество любителей российской словесности (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впрочем, если верить старому пастуху, играющему на «больной и испуганной» свирели, и сама природа уже не обновляется, она умирает, «всякая растения на убыль пошла, и миру не век вековать: пора и честь знать, только уж скорей бы! нечего канителить и людей попусту мучить». Великий Пан умирает. После него остаётся беспросветное уныние. «Обидно на непорядок, который замечается в природе». Жалко мира. «Земля, лес, небо… тварь всякая – всё ведь это сотворено, приспособлено, во всём умственность есть. Пропадает всё ни за грош. А пуще всего людей жалко». И чувствуется для вселенной «близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда земля, как падшая женщина, которая одна сидит в тёмной комнате и старается не думать о прошлом, томится воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидает неизбежной зимы; когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется ещё печальнее, и по стволу её ползут слёзы, и лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней» [С. 6, 37].
Чеховские лишние люди изнемогают под гнётом повторения, под тяжестью времени, и в этом заключается их нравственная слабость. Ибо душа богатая на однообразие внешнего мира отвечает разнообразием внутренних впечатлений, и непрерывно развёртывается ей бесконечный свиток. Недаром Кьеркегор моральную силу человека понимает как способность и любовь к повторению. Для датского мыслителя в первом, эстетическом, периоде жизни мы по ней порхаем, касаемся её поверхности то в одной, то в другой точке, всё пробуем, ничем не насыщаемся, бежим от всякой географической и психологической осёдлости, в каждую минуту «имеем наготове дорожные сапоги»; мы требуем как можно больше любви, но не надо дружбы, не надо брака, и из каждой чаши сладостны только первые глотки. Этический же период характеризуется повторением, его символизирует брак, и тогда прельщает не пестрота чужой дали, а своё родное однообразие, и тогда душа становится глубокой в своей сосредоточенности.
Чеховские лишние люди не находят себе удовлетворения в этом втором периоде, не выдерживают искуса повторения, и жизнь протекает для них, как осенний дождь, удручающий в своей монотонной капели. Они не умеют взрастить своего внутреннего вишнёвого сада, и сиротливыми тенями идут они по миру. Изнеможённые повторением, его не осилившие сменою внутренних обновок, они пускают свою ладью на волю жизненных волн, потому что их собственная воля бледна и слаба; она, «как подстреленная птица, подняться хочет и не может». И в жизни, кипящей заботами и трудом, они ничего не делают.
Чехов любит изображать людей неделающих. Неделание проникает у него в самые разнообразные круги общества и даже в такую среду, демократическую и рабочую, где труд, казалось бы, является чем-то естественным. Студент Петя Трофимов зовёт любимую девушку и всех людей к новой жизни, к новой работе, к необычайному труду, но сам он никак не может кончить университетского курса, сам он ничем не занимается.
Лишние герои Чехова не веруют в дело своей жизни и плетутся по ней с потушенными огнями. Но только ли словом укоризны должны мы бросить в его неделающих людей? Или, быть может, их бездейственное отношение к миру в своём конечном основании имеет глубокий и глубоко-чистый источник?
К «неделанию» призывал нас ещё раньше великий писатель. Толстой не хотел, конечно, проповедовать лень, он не требовал от нас, чтобы мы праздно сложили бездеятельные руки и предоставили мир его собственному течению. Но он говорил нам, что шумная сутолока дела, работы, профессии отвлекает нас от мысли о великом и важном. Подхлёстываемые бичом нужды и реальных потребностей, мы бежим по земле, всё время только строим жизнь, лепим из её глины свои хрупкие поделки, но о ней не думаем; мы только воздвигаем подмостки для своей жизненной пьесы, и у нас уже не остаётся досуга и сил для того, чтобы сыграть её самоё. Нам некогда. В суете своего повседневного занятия и муравьиного строительства мы не размышляем о его последней цели и не предаёмся бескорыстной вдумчивости. И на закате наших торопливых дней окажется, что, погружённые в своё дело, мы ни разу не взглянули жизни в её глубокие, в её загадочные глаза, и мы уйдём из мира без миросозерцания, уйдём в тягостном недоумении, во имя чего мы работали не покладая рук и, склонённые к земле, никогда не смотрели в небеса?
Бесспорно, что подобные мысли о великом неделании должны были жить в созерцательной душе Чехова, и потому он отворачивался от «ненужных дел», из-за которых жизнь становится «бескрылой». Устами своего художника он требует, чтобы все люди имели также время «подумать о душе, о Боге, могли пошире проявить свои духовные способности». Он любил «умное, хорошее легкомыслие», он рад за чудного старика о. Христофора, всю свою жизнь не знавшего ни одного такого дела, «которое, как удав, могло бы сковать его жизнь».
Кроме того, делают деятели, но делают и дельцы. Чехов дорог тем, что он не любит в человеке дельца. Он презирает «деловой фанатизм», который заставляет не только дядю Егорушки, но и богатого Варламова озабоченно кружиться по степи, между тем как эта степь исполнена такой волшебной красоты, таких несравненных очарований. Но за отарами овец, за туманом житейских расчётов её не чувствуют, не замечают, и обиженная степь, тоскуя, сознаёт, что «она одинока, что богатство её и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь её тоскливый, безнадёжный призыв: певца! певца!» Пoэт Чехов услышал этот призыв и воспел её дивными словами, но всё же степь находится в плену у плантаторов и дельцов, у Варламова, у тех, кто кружится по ней в деловой пляске хозяйственной заботы.
Да, Чехов как будто не любил, не понимал дела. Он не любил деятеля, который себя сознаёт и ценит, который хлопочет; он не любил строгой Лиды, которая бедным помогала вовсе не так грациозно и поэтически, как пушкинская Татьяна, и благодаря которой «на последних земских выборах прокатили Балагина». Он не воплотил гармонии между делом и мыслью, и в конце жизни знаменитого профессора, выдающегося деятеля, оказывается, что он не имел общей идеи, бога живого человека, что дух его как будто не участвовал в искусной работе его знаний и таланта. Дело рисовалось Чехову в образе дельца, в неприглядном виде Боркина, антипода Иванову; дело символизировалось для него ключами от хозяйства, кружовенным вареньем, которое столь удобно для экономического угощения и которое, в конце концов, пропадает, засахаривается, как у Варвары из «Оврага». В каждом деле он чувствовал неприятный оттенок хлопотливости и суеты, привкус какого-то шумного беспокойства, которое недостойно медлительной и величавой думы человека. И хозяйству, делячеству он противополагал не деятельность, а безделие. Деловитость весела, жизнерадостна, пошла, как Боркин, или же она тупа своей «бездарной и безжалостной честностью», как доктор Львов или фон Корен, а безделие изящно, меланхолично, грустно, и оно поднимает своих жрецов высоко над суетливой толпою.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: