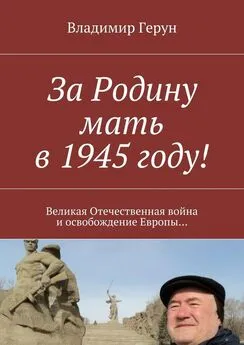Владимир Пичета - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II
- Название:Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издание Товарищества И. Д. Сытина
- Год:1911
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Пичета - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II краткое содержание
Вниманию читающей публики предлагается замечательный 7-томник. Замечателен он тем, что будучи изданный товариществом Сытина к 100-летней годовщине войны 12-го года, обобщил знания отечественной исторической науки о самой драматичной из всех войн, которые Российская империя вела до сих пор. Замечателен тем, что над созданием его трудилась целая когорта известных и авторитетных историков: А. К. Дживелегов, Н. П. Михневич, В. И. Пичета, К. А. Военский и др.
Том второй.
Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Известно, что Александр Павлович был, путем долгих уговоров в течение шести месяцев, приведен к убежденно в необходимости устранения императора Павла от управления государством. При обсуждении этого вопроса гр. Н. П. Паниным, Паленом и цесаревичем первый первоначально предполагал привлечь к участию в перевороте Сенат, вероятно, потому, что народ привык повиноваться его указам, и желал, чтобы Сенат принудил государя, без вмешательства цесаревича в это дело, признать Александра своим соправителем, что означало в этом случае учреждение регентства. Но потом эта мысль была оставлена, так как, по словам Палена, «большинство сенаторов без души, без одушевления. Они… никогда не имели бы мужества и самоотвержения для довершения доброго дела» [55] Александр Павлович был также низкого мнения о личном составе Сената. Но все же некоторые сенаторы, в том числе гр. Толстой и Трощинский (который 14 октября 1800 г. был отставлен от службы), были посвящены в тайну заговора. Беннигсен, называя в числе заговорщиков сенаторов Николая и Валериана Зубовых, прибавляет, что Трощинский составил манифест (от имени Сената) о том, что «император вследствие своей болезни принял великого князя в соправители», и так как предполагалось, что он добровольно на это никогда не согласится, то (среди заговорщиков) «было решено принудить его к этому и в случае крайней нужды отвезти в Шлисельбург».
.
По словам Беннигсена, Панин в переговорах с Александром Павловичем «обещал, что императора арестуют» (но жизнь его будет сохранена), «и ему (Александру) будут предложены от имени нации бразды правления». Пален также дал ему слово, что не будут покушаться на жизнь его отца. Саблуков слышал, что, когда заговорщики проникли в спальню Павла, кн. Платон Зубов держал в руках сверток, содержавший в себе «соглашение монарха с народом»; а Чарторийскому сообщили, будто бы, перед самым моментом убийства, Павла заставили подписать отречение, но этот слух не соответствует рассказам достоверных очевидцев. Рассказывали также, что Александр, после ужина с отцом, до катастрофы, подписал манифест, которым принимал на себя роль соправителя.
Есть известия декабристов М. А. Фонвизина (со слов гр. П. А. Толстого) и Лунина, что Панин и Пален предполагали ограничить самодержавие, заставив Александра подписать конституцию, но что убедил его на это не соглашаться, по словам Фонвизина, командир Преображенского полка Талызин, а по другому свидетельству, по смерти Павла — также генерал Уваров и полковник кн. П. М. Волконский. Писатель Коцебу, вращавшийся тогда в придворных сферах, в изданном лишь недавно сочинении сообщает иное известие. Когда молодой император в день восшествия на престол, 12 марта 1801 г., переехал в Зимний дворец, он, как сам говорил потом своей сестре, сказал заговорщикам: «Ну, господа, так как вы позволили себе зайти так далеко, довершите дело (faites le reste) — определите права и обязанности государя; без этого престол не будет иметь для меня привлекательности». «У гр. Палена, — добавляет Коцебу, — без сомнения, было благотворное намерение ввести умеренную конституцию; то же намерение имел и кн. Зубов. Этот последний делал некоторые намеки, которые не могут, кажется, быть истолкованы иначе, и брал у Клингера (директора корпуса, известного немецкого писателя) „Английскую конституцию“ де-Лольма для прочтения. Однако, несмотря на приведенные слова императора, это дело встретило много противодействия и не было осуществлено» [56] «Цареубийство 11 марта 1801 г., записки участников и современников». Изд. Суворина, 1908 г., стр. 397.
. Карамзин в «Записке о древней и новой России» говорит: «Два мнения были тогда господствующими в умах: одни хотели, чтоб Александр… взял меры для обуздания неограниченного самовластия, столь бедственного при его родителе; другие, сомневаясь в надежном успехе такого предприятия, хотели единственно, чтобы он восстановил разрушенную систему Екатеринина царствования, столь счастливую и мудрую в сравнении с системою Павла». Тут до известной степени верная характеристика двух направлений; но дело только в том, что из желавших «обуздания неограниченного самовластия» одни стремились к действительному ограничению самодержавия, другие желали только, чтобы деспотия была обращена в монархию, опирающуюся на основные, незыблемые законы, хранилищем которых должен был сделаться Сенат. В манифесте, написанном Трощинским, было объявлено, что государь принимает на себя «обязанность управлять Богом» ему «врученный народ по законам и по сердцу» своей бабки, императрицы Екатерины. Соответственно этому были восстановлены дарованные ею грамота дворянству и городовое положение, но все же император понимал, что необходимо сделать что-либо для прекращения возможности произвола, подобного тому, который испытала Россия при его отце.

Граф П. А. Пален
Целый ряд проектов второй половины XVIII века (проф. Десницкого, гр. Н. И. Панина, кн. М. М. Щербатова, императрицы Екатерины II 1788 и 1794–5 гг., наконец упомянутая выше записка кн. Безбородко, переданная цесаревичу Александру) ставили Сенат во главу угла государственных преобразований. Соответственно этому, 5 июня 1801 г. император Александр дал указ Сенату, в котором высказывал желание «восстановить» его «на прежнюю степень, ему приличную», и требовал от него представления доклада об его правах и обязанностях. Государь заявлял в этом указе, что намерен поставить права и преимущества Сената «на незыблемом основании, как государственный закон… и подкреплять, сохранять и соделать его навеки непоколебимым». Но в этом же указе Сенат был назван «верховным местом правосудия и исполнения законов», а законосовещательной роли, очевидно, предоставлять ему не предполагалось. Тем не менее, указ произвел сильное впечатление и возбудил большие ожидания [57] Одним из побуждений к изданию этого указа могла послужить анонимная записка, найденная во дворце через десять дней после вступления на престол Александра I, автор которой, как оказалось, Каразин, выражал надежду, что государь даст стране «непреложные законы, ограничит ими самодержавие свое и своих наследников, составит коренное учреждение, изберет ему блюстителей и, оградив их личной безопасностью, уделит им избыток своей власти на охранение святых законов отечества».
.
Составление доклада выпало на долю гр. П. В. Завадовского. Во введении к «Положению о правах Сената» Завадовский, говоря об унижении его в последние годы и применив к нему известные слова Тацита, выразился так: «се образ порабощенного сената, в котором молчать тяжко, говорить было бедственно!» В этом докладе сказалось стремление обеспечить самостоятельность и авторитет решениям Сената, который «управляет всеми гражданскими местами в империи» и «высшей власти над собою не имеет, кроме единой самодержавного государя». Повеления его исполняются, как именные указы государя. Сенат, доложив государю, может увеличивать подати. Выражено было пожелание, чтобы ему дано было право избирать кандидатов в президенты коллегий, кроме трех первых, в губернаторы и другие места и представлять государю. Наконец ходатайствовалось о дозволении делать представления государю, если бы изданный закон или указ оказался в противоречии с прежде изданным или был бы «вреден или не ясен». Державин предложил назначать сенаторов из кандидатов, избираемых «от всех других присутственных мест и знаменитых особ в обеих столицах».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: