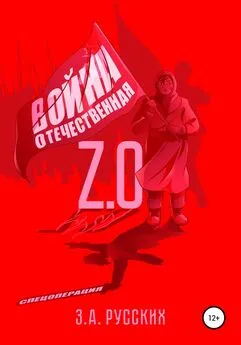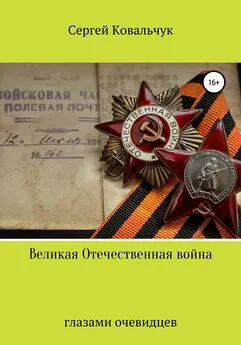Сергей Князьков - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том IV
- Название:Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том IV
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издание Товарищества И. Д. Сытина
- Год:1911
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Князьков - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том IV краткое содержание
Вниманию читающей публики предлагается замечательный 7-томник. Замечателен он тем, что будучи изданный товариществом Сытина к 100-летней годовщине войны 12-го года, обобщил знания отечественной исторической науки о самой драматичной из всех войн, которые Российская империя вела до сих пор. Замечателен тем, что над созданием его трудилась целая когорта известных и авторитетных историков: А. К. Дживелегов, Н. П. Михневич, В. И. Пичета, К. А. Военский и др.
Том четвертый.
Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том IV - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
175
Сожгли из чувства патриотизма, как доказывает в своих позднейших воспоминаниях ген. Ланжерон: «Пожар Москвы, это геройское деяние, это ужасное, величавое решение, вызванное удивительным самоотвержением и патриотизмом самым пламенным» (Из записок, «Р. Арх.», 1895, III, 150).
176
Для Свербеева доказательством того, что Ростопчин не участвовал в поджогах Москвы, служит, главным образом, то, что тайные пособники Ростопчина доселе никем не открыты. Вероятно, они никогда не будут открыты. С этим фактом приходится мириться. Но нетрудно предположить, что этими пособниками и были оставленные Ростопчиным полицейские, этим пособником был всегда полупьяный сыщик Яковлев, являвшийся правой рукой Ростопчина в подготовлении народного мнения и занимавшийся распространением афиш уже после вступления французов в Москву (Заметки Булгакова, «Р. Арх.», 1866, 702).
«Я имею полное право, — добавляет, кроме того, Свербеев (I, 439), — что, если бы Ростопчин хотя сжег Москву, он предупредил своего приятеля Обрескова… Я имею еще большее право думать…, что если бы он сделал какие-либо распоряжения о сожжении Москвы, то собственный его великолепный на Лубянке дом загорался бы первый». Весьма вероятно, что это и было бы так. Ростопчина можно упрекать в саморекламе и самодурстве, но не в корысти. Если мы примем во внимание сведения, сообщенные Бургоэнем, то сохранность дома Ростопчина, вероятно, придется объяснить поспешным его бегством перед собравшейся на дворе толпой, которая была враждебно настроена к московскому управителю.
177
Бар. Дедем, «Русск. Стар.», 1900 г., июль, 131 стр.
178
Дубровин. «Отечественная война в письмах современ.», 198.
179
В числе таких был и гр. Ростопчин, писавший императору 13 сентября: «О мире ни слова: то было бы смертным приговором для нас и для вас» («Р. Арх.», 1892, VIII, 539).
180
Лошади французской кавалерии были очень крупной породы. Высокие и массивные, они плохо были приспособлены к усталости и лишениям и не могли обходиться без обильной пищи. Это в полной мере сказалось во время отступления. Ср. Pion des Loches, Mes campagnes, стр. 271.
181
Ср., напр., ниже в статье «Партизаны», слова Д. В. Давыдова о гвардии Наполеона во время отступления.
182
Мнение Дедема (Mem., 256) о том, что Кутузов, получив подкрепления, мог бы зайти Наполеону в тыл на Можайск и Вязьму, едва ли может серьезно поддерживаться.
183
Ростопчину были известны и первоначальные намерения Наполеона относительно зимовки в Москве, но он не считал их серьезными: «Он (Наполеон) прикидывался, будто намерен провести в ней (в Москве) зиму»… и пр. Там же, стр. 554.
184
См. т. III, статью «Вторжение».
185
См. в III т. статью «Наполеон».
186
Понятовский давно просил разрешения сделать со своим корпусом диверсию на юго-запад. Еще в Смоленске он умолял Наполеона об этом, как говорили в польских войсках, на коленях. Он считал успех экспедиции обеспеченным и во всяком случае надеялся сделать большой набор в Киевской области и других старых польских провинциях. Его просьбу горячо поддерживал Даву. Ernouf, там же, 262–263. Наполеон не согласился.
187
Об этом см. ниже, ст. «Березинская операция».
188
См. выше статью «Оставление Москвы».
189
«Я бы мог гордиться тем, что я первый генерал, перед которым надменный Наполеон бежит».
190
На основании архивных данных полк. Н. П. Поликарпов («Нов. Жизнь», 1911 г., кн. VIII, стр. 133 и след.) показывает, что начало партизанских действий относится к периоду гораздо более раннему, чем принято думать. Набег Дениса Давыдова приходился на конец августа. Между тем партизаны действовали уже начиная с 20-х чисел июля. Идея партизанских действий принадлежала не Давыдову, не Багратиону, и не Кутузову, а Барклаю-де-Толли. После соединения с Багратионом под Смоленском, 23 июля Барклай сформировал летучий партизанский отряд из Казанского драгунского, трех донских казачьих и Ставропольского калмыцкого полков под общим начальством ген. Винцингероде для действия против левого фланга французов. Уже в ночь с 26-го на 27-ое Барклай получил от Винцингероде важное известие из Велиха о намерении Наполеона двинуться из Поречья к Смоленску, чтобы отрезать нам отступление. И потом отряд Винцингероде все время продолжал действовать против флангов неприятеля, разбившись на более мелкие отряды. Ред.
191
Несомненно, однако, в рассказах о партизанских подвигах были преувеличения: «партизаны, — говорит кн. Волконский, — морочат читателей рассказом о многих небывалых стычках и опасностях» («Зап.», 207, 211). Ред.
192
Его не следует смешивать с маршалом Ожеро, который находился в это время в Германии во главе своего корпуса. Ред.
193
Однако к такому решению приходили с большим колебанием. Чрезвычайно характерно замечание А. Н. Глинки 19 июля: «Только и говорят о поголовном наборе, о всеобщем восстании… Но война народная слишком нова для нас. Кажется, еще боятся развязать руки» («Письма офицера», 9). Ред.
194
«Вытеснен злодей из Москвы, — по выражению одного из современников, — не армией, но бородами московскими и калужскими». Ред.
195
См. статью «Ростопчин, московский главнокомандующий».
196
«Злодеи, — говорит в своих записках Золотухина, — к выступлению из Москвы сделались еще злее, истребляли огнем все попадавшиеся им на пути деревни и города» («Р. Ст.», 1889, XI, 272). Небезынтересное объяснение по этому поводу дает в своей книге Сегюр, говоря о взрыве Кремля: «Отныне все, что оставалось позади французов, должно предаваться огню. В качестве завоевателя Наполеон сохранял все; отступая, он будет уничтожать все: из необходимости ли, пользуясь которой он разорял неприятеля и замедляя его движение, или из возмездия» (Рус. пер., 109). Ред.
197
Этим жестокостям в темной массе вряд ли приходится удивляться. Среди нее, как мы знаем, всеми мерами распространяли «разные суеверные слухи». Ей внушали эти жестокости и подавали пример… Война полна ужасами, иногда почти неизбежными там, где дело идет о самосохранении. Ужасную картину при отступлении около Гжатска рисует в своих воспоминаниях Сегюр: «Мы были изумлены, встретив на своем пути, видимо, только что убитых русских. Замечательно было то, что у каждого из них была совершенно одинаково разбита голова и что окровавленный мозг был разбрызган тут же. Нам было известно, что перед нами шло около двух тысяч русских пленных и что вели их испанцы, португальцы и поляки». Рассказывая о возмущении со стороны Коленкура и др. этой «бесчеловечной жестокостью», Сегюр добавляет, что «на следующий день эти убийства прекратились. Наши ограничивались тем, что обрекали этих несчастных умирать с голода за оградами, куда их загоняли словно скот. Без сомнения, это было жестоко; но что было делать? Произвести обмен пленных? — Неприятель не соглашался на это. Выпустить их на свободу? — Они пошли бы всюду рассказывать о нашем бедственном положении и, присоединившись к своим, они яростно бросились бы в погоню за нами. Пощадить их жизнь в этой беспощадной войне — было бы равносильно тому, что принести в жертву самих себя. Мы были жестоки по необходимости» (русс. пер., 112); по словам Росса, жестокость над пленными производилась по приказанию Наполеона (рус. пер., 202). Вряд ли, однако, это было так. Жестокость порождает жестокость. Но с тем большим вниманием историк должен остановиться на фактах, свидетельствующих о гуманности к врагу. Мы встречаемся на ряду с рассказами о жестокостях с фактами незлобивости и жалости к полуголодному, умирающему врагу, т. е. к врагу, который уже не мог быть «хищным зверем». Мы знаем факты, когда крестьяне спасали французов от зверства казаков (см., напр., воспоминания Комба). Народная масса проявляет по отношению к врагу подчас более гуманности, чем люди культурные, люди общества. Мы слышим нередко рассказ об издевательствах над пленными, с которыми обращаются, как «с собаками» (см., напр., письма Волковой 18 ноября и 2 декабря о тамбовском губернаторе. «Жестокое обращение с обезоруженным врагом в Тамбове побудило даже вмешаться Кутузова»). Друг и поклонник Ростопчина А. Я. Булгаков, когда ему приходится говорить о пленных французах, выражается не иначе: «пусть околевают эти негодяи». Раненый француз, оставшийся в Москве, начальник обоза главной квартиры Газо рассказывает, что при вступлении русских в Москву было перебито более 2.000 раненых французов, расположенных по частным квартирам. Но и просвещенный гр. Ростопчин мало чем будет отличаться от закоснелого в невежестве донца. Свое свидание с Газо он закончил «неприличной бранью» и велел поместить французских раненых в подземелье, где будет ежедневно умирать по тридцать человек («Р. Ст.» 1893 янв., 32). Ред.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: