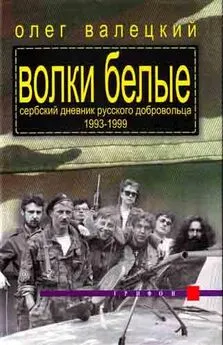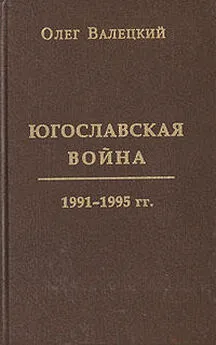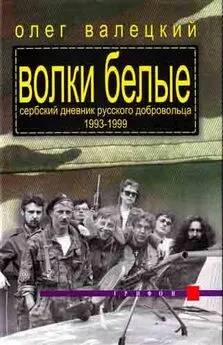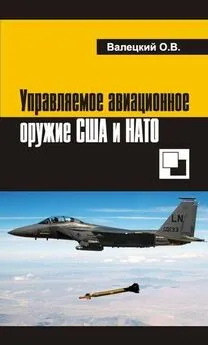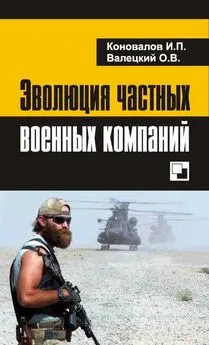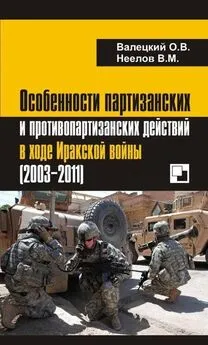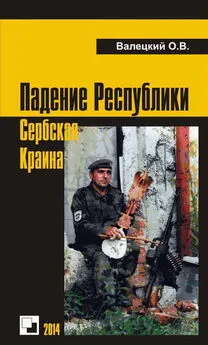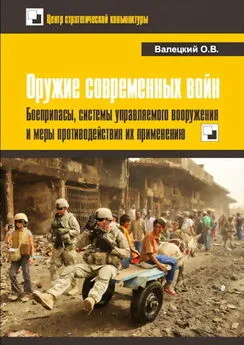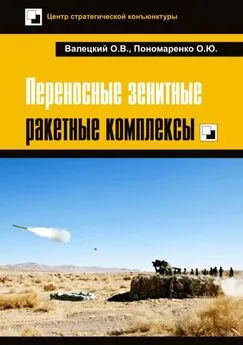Олег Валецкий - Волки белые
- Название:Волки белые
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Грифон
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-98862-023-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Валецкий - Волки белые краткое содержание
Уникальные дневниковые записи Олега Валецкого, фронтового разведчика-добровольца на сербской войне 1993–1999 гг., способны вызвать глубокие чувства у всех. Это своего рода трагедия «Герника», но изложенная на литературном русском языке и на сербско-боснийском «материале», с точными приметами места действия и способов ведения прицельного огня из гранатометов… Кроме этого, автор часто дает и краткие, обоснованные с технологической точки зрения и несколько циничные описания своего понимания причин и механизмов этой страшной войны в Югославии. Великолепный лаконизм и жесткость книги делают ее бесценной находкой для русского читателя, всерьез интересующегося вопросами современной истории войн в странах, находящихся в «мягком подбрюшье» России.
Волки белые - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Целью нашего огня были позиции противника в районе здания «Юнионинвеста», в том числе какие-то стены сооружения из кирпичей и мешков с песком, обеспечивающие безопасность прохода бойцам противника к своим позициям. Тогда по всей Гырбовице стоял такой грохот, и кто откуда бил, разобраться было невозможно. Интересно, что воевода стрелял из своего гранатомета без наушников, объясняя это тем, что его уши предохраняют длинные густые волосы, и еще он открывает рот. Открывать рот рекомендуется при стрельбе из «Золи», тем более что маленькие резиновые затычки для ушей зачастую терялись. Произошли и курьезы. Витя зачем-то решил пострелять с крыши, находясь в двух-трех метрах от стеклянной ограды, которую он в темноте не видел. В результате осколки стекла посекли ему подбородок.
Затем мы спустились вниз, пересекли Гырбовицу и пошли к зданию, находившемуся недалеко от реки Миляцка. На другой стороне реки был расположен парк, по которому шла линия обороны неприятеля. Мы опять открыли огонь. Из гранатомета стрелял высокий стриженый парень, муж медсестры из «Корана». Мой гранатомет упорно продолжал молчать, меня это злило, но научило больше никогда не пользоваться чужим оружием. Впоследствии я получил гранатомет М-57 (и к нему пару ящиков гранат), который уже меня не подводил.
Саша Шкрабов после этой «акции» притащил откуда-то гранатомет РПГ-7 с трофейными снайперскими китайскими осколочными — фугасными и кумулятивными — гранатами к нему. Позднее еще один РПГ-7 нам дал на временное пользование Ацо Пандуревич, офицер нашего батальона, ответственный за безопасность. Заряды мы хранили в сухих местах, а отсыревшие — осторожно подсушивали вблизи батарей. Качество трофейных гранат часто хромало, а один РПГ-7 пришлось отнести в ремонт мастеру Мише, потому что его ударная игла не поднималась достаточно высоко: орудие давало осечку каждый раз, когда боец выскакивал из-за угла здания для выстрела. Получалось как в фильмах, только пулю в лоб можно было получить мгновенно, поэтому я предпочитал стрелять из гранатомета в темноте. В копейку попадать необходимости не было, а бункер был виден и ночью.
Со временем наша каптерка потихоньку стала пополняться боеприпасами — и не только ручными гранатами и патронами, но и дистанционными минами МРЧД и даже 82 мм минометами. Источник нашего снабжения был очень прост: перед каждым боем завозилось большое количество боеприпасов. Немало сербских бойцов обходилось ограниченным запасом. Наши пытались следовать этому примеру, но, как правило, срабатывало общественное мнение отряда. Таких бойцов по-русски хорошо обругивали, и им приходилось нагружаться максимально, что иногда становилось впоследствии обузой на марше. После любой неуспешной акции мы подбирали оставшиеся боеприпасы, вплоть до гранат к гранатомету. Количество собираемого ограничивалось нашими физическими возможностями. Так что каптерку мы свою укомплектовали собственными усилиями, хотя у нашей четы был собственный склад, доступа к которому у нас не было. Каптерка же нам здорово пригодилась, так как с октября 1993 года у нас началась более интенсивная жизнь, связанная с новыми вспышками боевых действий в районе Сараево.
Сербы развернули городскую войну с точечными ударами. Это было правильно: уступая противнику в силе, сербы держали его в постоянном напряжении, пользуясь также близостью политических центров неприятеля к сербской линии обороны на Гырбовице. Уйди тогда сербы в глухую оборону, то противник почувствовал бы себя увереннее и мог организовать нападение, которое имело бы все шансы на успех. У сербов были весьма плохо подготовленные позиции, которые они улучшать не стремились. В середине 1993 года по сербскому телевидению показывали репортаж с Гырбовицы, в котором один из командиров сербской четы, по фамилии Шешель, родственник известного Воислава Шешеля заявил: «Нам не нужны укрепления, так как противник труслив, и мы с ним всегда сможем покончить». На мой взгляд, противник все-таки большой трусостью не отличался, тогда как у сербов на Гырбовице тогда сохранилось лишь 200–300 человек, причем уже готовых воевать и имеющих хороший боевой опыт. Уже к 1995 году многие из них погибнут, другие уйдут, иные просто уедут. Война, шедшая здесь, значительно отличалась от войны в других регионах. Здесь шла городская война, и не месяц-другой, а три с лишним года. Как я уже писал, воевали вчерашние соседи, коллеги, родственники, друзья. Это вызывало во многих еще большую озлобленность, так как люди чаще узнавали, кто кого убил, ограбил или изнасиловал. Как ни тяжело было бойцам из Баня-Луки, Беляны, Пале, Требинья, но они возвращались домой, могли отдохнуть в почти мирной обстановке, здесь же все было относительно, так как дома от линии фронта находились в 200–300 метрах. Такая война на Гырбовице может сравниться лишь с войной на Добрини и Отесе под Илиджей (или Зораново, названного в честь командира, погибшего при его освобождении в 1992 году).
Позднее, после войны, живя в Добое, из разговоров с сербами я понял, что тогда в Возуче (поселке на горном массиве Озрен) было подобие такой войны, и фактически все села, поселки и города, находившиеся в прифронтовой зоне, были охвачены такой войной. Поскольку постоянно падали мины из минометов и снаряды из гаубиц, стреляли снайперы, то гибли люди у себя дома, в том числе женщины и дети. Все же, Гырбовица, которую я знал хорошо, находилась на особом положение ибо с началом любых боевых действий она бывала отсечена неприятельским огнем. На этом участке у сербов не было передового командного пункта, и штаб бригады большого влияния не имел. Между тем для Гырбовицы существовала реальная опасность пасть в руки противника. Рискни тогда он, вряд ли бы в Совете безопасности ООН вспомнили о тысячах убитых и изгнанных сербов в такой операции. Могла бы с падением Гырбовицы пасть вся община Ново Сараево и часть общины Илиджа, так как остановить неприятельское наступление было невозможно. Резервов здесь почти не имелось, а бойцы, находящиеся здесь, свое время использовали по личному усмотрению. Была, правда, здесь и милиция, но это — совсем другое ведомство, да и состав ее был незначителен.
Так что, нравилось командованию или нет, но войну до 1995 года вели добровольцы. Никто никого воевать не заставлял, и денег никому за это не платили. Такая война была привлекательна для тех, кто любил воевать по-настоящему, проявляя личную смелость. А люди собирались разные, я тоже приехал только за тем, чтобы повоевать, поэтому стремился попасть в любую проводившуюся акцию. Сказать, что воевали от безысходности и паранойи — неправда, хотя так пытаются эту войну представить иные журналисты. Разумеется, тут встречались разные люди. Я тогда подружился с Нешо и Войо, владельцами кафе «Снупи» на Гырбовице, которые добровольно вызвались воевать. Лучше я узнал и ребят из группы «Серпски соколови», с которыми наши плечом к плечу воевали на Озренской: отец одного из них — офицер в штабе бригады, у второго дядя был владельцем крупной фирмы заграницей. Мой знакомый по чете Алексича — Ранко — был инвалидом и освобожден от воинской повинности, но все же воевал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: