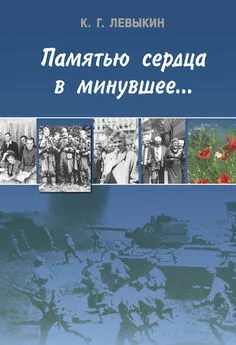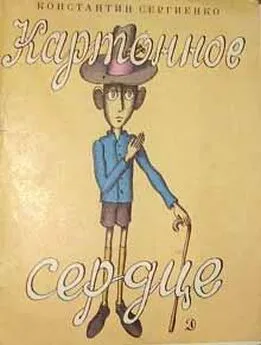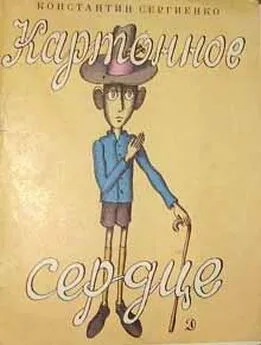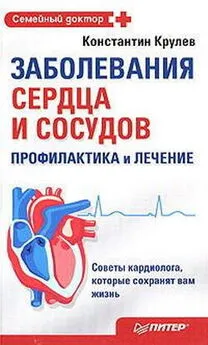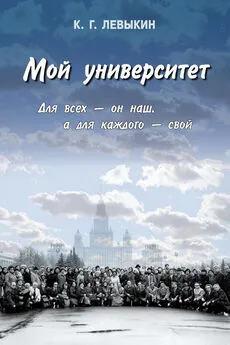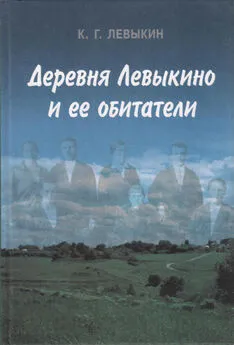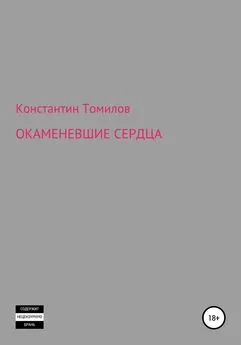Константин Левыкин - Памятью сердца в минувшее…
- Название:Памятью сердца в минувшее…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0012-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Левыкин - Памятью сердца в минувшее… краткое содержание
Вторая часть книги посвящена воспоминаниям о Великой Отечественной войне, которую сам автор прошел солдатом. Свою солдатскую службу он начат добровольцем, участвовал в обороне Москвы, обороне и освобождении Северного Кавказа и Кубани. Войну автор закончит сержантом Отдельной мотострелковой дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, в которой ему пришлось служить после боев на Кубани В составе парадного расчета этой дивизии 24 июня 1945 года старший сержант Левыкин принимал участие в Параде Победы на Красной площади.
Всему этому автор книги, историк, профессор К. Г. Левыкин дает объяснение и оценку.
Памятью сердца в минувшее… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я уже заметил, что предпоследний, девичий ряд нашего класса слева начинается маленькой физиономией Эдика Браславского. О нем могу сказать только, что этот маленький человечек, с неожиданно басовитым голосом, был необыкновенно подвижен, непоседлив и непредсказуем. Он тоже был неутомимым и веселым проказником. После войны я несколько раз встречал его в селе Алексеевском и с трудом узнавал в нем когда-то забавного шалуна. Вырос он немного, не дотянулся даже до «ниже среднего». Зато дефицит роста он успешно компенсировал весом и не столько толщиной фигуры, сколько своей откормленностью. Он был одет в добротный и модный костюм, и вид его свидетельствовал о том, что этот человек преуспевал и жил в достатке.
Знакомства с ним я возобновлять не стал, так как у меня, вернувшегося с войны, вдруг возникло какое-то предубеждение, связанное, вероятно, с его уж слишком благополучным видом. Оно подкрепилось тем, что однажды мы столкнулись с ним лицом к лицу и Эдик не узнал меня. Я уже готов был напомнить ему наше общее озорное детство, но Эдик, равнодушно скользнув взглядом по моему лицу, прошел мимо. Мне показалось тогда, что он и не ждал, и не желал этих напоминаний.
Однако знакомство наше с Эдиком Браславским чуть было не возобновилось в начале восьмидесятых. Перед этим судьба свела меня с другим аборигеном еврейского поселения в русском селе Алексеевском, знакомым мне по общей детской компании из другой школы, – Умкой. Теперь это был солидный человек Наум Ильич Голобородко – начальник Управления технического снабжения Московской телефонной сети. Случайно встретившись и узнав друг друга, мы несколько лет поддерживали дружеские отношения. Однажды я посетовал, что никак не подберу себе приличного костюма. А мне тогда предстояла зарубежная поездка.
Наум вызвался мне помочь и сразу же взялся за телефон. Он быстро нашел нужного и способного мне помочь человека, им оказался Эдик Браславский – директор магазина готовой мужской одежды, который находился недалеко от несуществующего уже теперь села Алексеевского, на углу проспекта Мира и улицы Галушкина. Оказалось, что Эдик помнил меня, и мы договорились встретиться. Но на следующий день я купил себе костюм в ГУМе и к своему однокласснику не пошел. Однажды я позвонил по сохранившемуся номеру, Эдик был в отпуске. Потом номер телефона исчез из записной книжки и из памяти. А все-таки жаль! Надо было бы повидаться. Другого случая встретиться с детством, наверное, уже не будет.
Надя Неустроева не случайно оказалась на фотографии рядом с Эдиком. Она была его соучастницей в проказах на переменах, жила недалеко от него, на Церковной Горке, но отличалась более чем скромной одеждой. Бедненькая и худенькая она была, но зато всегда озорно улыбалась. Такой она смотрит на меня и с фотографии, такой же я встретил ее летом в сорок пятом, когда после парада Победы пришел в район, где прошло мое детство, искать оставшихся в живых друзей. Остановился я около дома Бумки Сапожникова и через заборчик переговариваюсь с сестрой приятеля. Назвал свою фамилию. И вдруг слышу тоненький и радостный голосочек. Из домика-сарайчика появилась маленькая, худенькая и все такая же бедненькая Надя Неустроева. Она-то и сообщила мне о том, что на войне погиб Коля Шахматов, с имени которого я и начал здесь свой рассказ о нашем 4 «Д» из сорок восьмой Образцовой школы. Лиха этой девочке, видимо, досталось много. Она рассказала мне о погибшем на фронте отце. Всплакнула. Но потом глаза ее опять засветились от радости видеть меня живым и невредимым.
А сосед ее, Бумка Сапожников, которого я искал, между прочим, в это время работал заведующим комиссионным магазином.
Рядом с Надей Неустроевой, положив ей руку на плечо, с фотографии на меня смотрит пионерка Лиля Иванова. Ее после войны я тоже встретил там же, в селе Алексеевском. Она спускалась навстречу мне от церкви к мостику через речку Копытовку. Тогда эта речка новым поколением здешних жителей уже именовалась «Тухлянкой». А Лилю было почти невозможно узнать в образе «дамы, прекрасной во всех отношениях». Кажется мне, что мы друг друга узнали одновременно и одновременно же решили не обнаруживать этого. Спокойно разминулись. И все-таки, разойдясь, одновременно она и я оглянулись. И опять сделали тот же вид. Я тогда все еще оставался старшим сержантом, а она была красивой дамой. Потом я много раз видел Лилю издалека. Она продолжала жить в селе Алексеевском, но не в том старом деревенском доме, в котором до войны она соседствовала с Колей Шахматовым. Этого дома уже не существовало, и я предположил, что моя прекрасная одноклассница сделала удачную партию в нашем еврейско-православном Алексеевском селе. Однажды, уже в каком-то шестидесятом году, я узнал ее в окошке киоска с театральными билетами на станции метро «Щербаковская». Теперь она была уже дамой уважаемого возраста, за пятьдесят. А потом еще раз я видел ее, торгующую билетами на футбольные матчи в Лужниках. Всякий раз при этих встречах, да и теперь я всегда вспоминаю Лилю как девочку моей мечты из нашего 4 «Д». Свое неравнодушие к ней я проявлял в бестактных и дерзких поступках по отношению к ней. Иона, конечно, так и не поняла моих истинных чувств. Только однажды на нашей последней пионерской прогулке в Сокольниках с нашим пионервожатым Борей, по ее просьбе, я пообещал покатать ее на лошадке, когда вырасту и стану кавалеристом. Мы тогда мечтали о будущем. Мои друзья хотели стать летчиками, танкистами, а я мечтал о коне. Кавалеристом-то я на некоторое время на войне стал. Но обещания своего не выполнил. Потерял я под станицей Абинской на Кубани своего коня и до конца войны прошагал в пешем строю.
Дальше в ряду за Лилей стоит Лиза Первушина. Она сидела за партой перед нами с Семкой Кантором. Я дергал ее за рыжие косы. А еще помню, как она на уроке физкультуры ловко становилась «на мостик» и, лежа на животе, легко доставала носками ног до своего затылка. Больше ничего об этой девочке не помню и никогда ее не встречал.
Также я больше не встречал девочку по фамилии Гинзбург. Помню, что она была очень тихая и скромная. Один глаз ее немного косил. Она была отличницей.
За двумя совсем уже неузнаваемыми мною теперь девочками в центре ряда на фото стоит в обнимку с соседками наша староста, отличница и признанная пионерская командирша Юля Петрова. Она была у нас не только общешкольной, но и районной, да и, пожалуй, общемосковской знаменитостью. Я до сих пор удивляюсь тому, как могла она научиться громко и отчетливо произносить пионерские речи на наших школьных сборах, как у нее хватало смелости выходить на трибуну на районных и городских слетах, как она могла так уверенно заставлять нас слушать себя. В момент таких выступлений Юля, задорная, звонкоголосая, курносая, русоголовая, с косичками вразлет и с концами пионерского галстука также вразлет, смотрела на нас, как с плаката. Мы, мальчишки, завидовали ей, но такими же, как она, стать никак не могли. Такие, как Юля, во время войны становились разведчицами, партизанками, радистками или, на худой конец, героинями-станочницами, кующими победу в трудовом тылу. Стала ли наша Юля такой, не знаю!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: