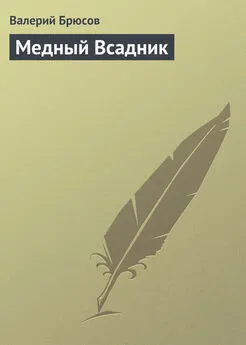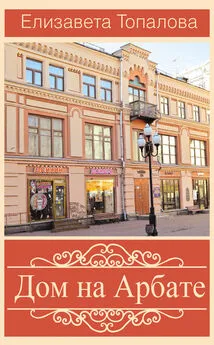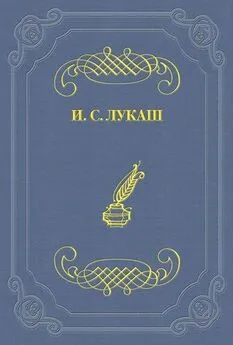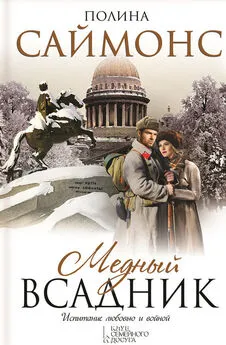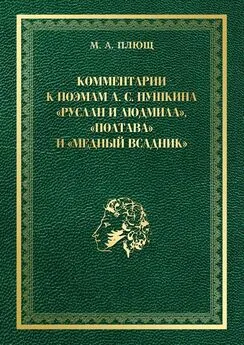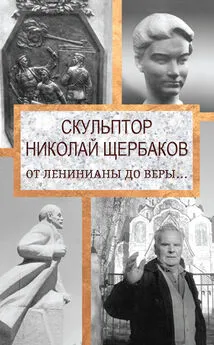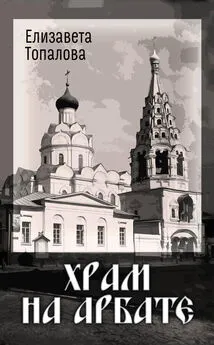Елизавета Топалова - Медный всадник. Жизненный путь Этьена Фальконе
- Название:Медный всадник. Жизненный путь Этьена Фальконе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алгоритм
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-906861-41-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елизавета Топалова - Медный всадник. Жизненный путь Этьена Фальконе краткое содержание
В центре повествования – судьба Фальконе, преломленная через осмысление христианской идеи и понимания того, что судьба человека – результат его осознания нравственного пути. Вместе с тем автор, ведущий повествование от лица персонажа Луи, вместе с другими героями книги дает понять, что великие просвещенные правители, подобные Петру I, – это дар судьбы, которая вовсе не случайна…
Книга посвящается замечательному скульптору Н. А. Щербакову, удивительное сходство которого – как внешнее, так и внутреннее – со знаменитым Э. М. Фальконе вдохновило автора на написание этой книги.
Медный всадник. Жизненный путь Этьена Фальконе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ле-Муань надолго замолчал, затем продолжил:
– Но это по-видимому не относится к самому Сократу. Оракул, к которому отец Сократа обратился за советом о характере воспитания сына, сказал ему, что тот уже имеет внутри себя руководителя, который лучше тысячи наставников и учителей: пусть он поступает так, как ему заблагорассудится, в соответствии со своей внутренней потребностью. В молодости Сократ решил посетить храм Аполлона в Дельфах и увидел написанное на дверях храма изречение одного из семи греческих мудрецов – спартанца Хилона: «Познай самого себя». После этого он оставил ремесло каменотеса и занялся философией, которую сравнивал с повивальным искусством своей матери, повитухи Фенареты.
Фальконе удивленно взглянул на Ле-Муаня.
– Нет, – рассмеялся тот, – Сократ не рожал сам, он лишь помогал рождению истины. Правда, помогал он лишь тем, в ком видел хоть какие-то признаки душевной беременности. Сократ никогда никого не учил, ничего не писал. Он философствовал в своих беседах, которые были записаны его почитателем Платоном и благодаря этому дошли до наших дней. В беседах Сократа – вся его философия, проповедующая ироническое отношение к человеческой мудрости. Обычно свои беседы с философами, претендующими на знание истины, он начинал с общепринятых рассуждений, поддакивая собеседнику и охотно соглашаясь с ним. Но затем несколько его наивных вопросов заводили самонадеянного умника в тупик и заставляли его убедиться в полной абсурдности своего первоначального мнения. Многие беседы Сократа заканчивались тем, что раздосадованный собеседник начинал упрекать Сократа в том, что он, притворяясь незнающим, нарочно путается, чтобы запутать других, и специально ловко подсовывает для подвоха каверзные вопросы. Сократ на это лишь разводил руками и отвечал: «Ведь не то, что я, путая других, сам ясно во всем разбираюсь, просто я хочу вместе с тобой поразмыслить и поискать, что такое добродетель».
Ле-Муань прошелся по мастерской.
– Добро, добродетель… – задумчиво произнес он. – Идея добра для внутреннего мира то же, что солнце для внешнего. Кто знает – может быть, добро не есть сущность вещей, но гораздо выше этой сущности. Так говорил Сократ. И образ жизни его был достоин мудреца. Он проповедовал воздержание в удовольствиях, еде и питье, круглый год ходил босой в старом поношенном плаще. Однако личность его была настолько популярна, что даже золотая афинская молодежь, подражая Сократу, тоже стала щеголять в лохмотьях. Одному из таких своих поклонников Сократ сказал, что сквозь дыры его плаща просвечивает тщеславие. Сократ не считал, что имеет право кого-то учить, а тем более брать за это плату. Многие ему говорили: значит, твоя мудрость ничего не стоит, раз ты не берешь за нее деньги? Но и это не могло заставить его отступить от однажды принятого правила. Берущих плату за обучение своему знанию он сравнивал с теми, кто продает свою красоту за деньги. А ведь он прав – то, что не имеет цены, – бесценно!
– Но, может быть, аскетизм Сократа был вынужденным, – вздохнул Ле-Муань. – Философия – занятие неблагодарное, и тот, кто ищет истину, рискует умереть от голода. Ведь люди всегда могут прожить и по-старому, поэтому новорожденная истина никому не нужна. Сократу еще повезло – у него был товарищ, достаточно богатый для того, чтобы дать своему другу возможность совершенствоваться в философии. – Ле-Муань грустно вздохнул: – Мы, художники, сходны в этом с философами: все наши замыслы зависят от великих мира сего, которые дают нам возможность их осуществлять. Но они же и губят наши замыслы по капризу или невежеству.
– Значит, художник, чтобы стать свободным, должен быть богат? – полуутвердительно-полувопросительно произнес Фальконе.
Ле-Муань внимательно взглянул на юношу и, помолчав, ответил:
– Нет, деньги не всегда дают возможность творить. Но чтобы стать свободным, нужно, как Сократ, выпить чашу с ядом.
– Да, Сократа казнили, – продолжал он, отвечая на немой вопрос Фальконе. – Его обвинили в том, что он не почитает богов, в которых верят афиняне, и вводит какое-то новое божество, которое ставит выше всех прочих богов. Он часто упоминал в своих беседах о каком-то божестве внутри себя, голос которого удерживает его от дурного и побуждает к добру. Это есть голос совести, который вкладывается в нас уже при рождении и благодаря которому мы различаем доброе и злое, хорошее и плохое.
– На суде Сократа представили как главу философской школы софистов, хотя именно он и не признавал их теории относительности нравственных понятий, – пояснил Ле-Муань. – Его обвинили в упадке нравственности и в развращении афинской молодежи: он воспротивился запрету вести беседы с юношеством. Но дело было, конечно, не в этом. Сократ осуждал богатство и роскошь, почитаемые в Афинах, и приветствовал спартанский образ жизни, где строго ограничивалось количество имущества у граждан. В Афинах, где было демократическое правление, это было равносильно государственной измене и пособничеству аристократической Спарте – извечной противнице свободных Афин.
Ле-Муань опять надолго замолчал, о чем-то задумавшись, затем вновь заговорил:
– Сократ и не скрывал своих взглядов. Демократия, говорил он, – это самая соблазнительная с виду форма правления, но в сущности свобода, доведенная до крайности, ведет к рабству. Каприз всякого есть закон. Равенство царствует среди вещей неравных. Такое государство гибнет от излишка своего же принципа – свободы. Она превращается в рабство, так как обыкновенно один из демагогов захватывает власть и становится тираном. Власть, основанную на воле народа и на государственных законах, Сократ называл царством, а власть против воли народа и основывающуюся не на законах, а на произволе правителя называл тиранией. Там, где граждане разделены на богатых и бедняков, власть принадлежит богатым в ущерб бедным. В таком государстве полно нищих, воров и разбойников, сдерживаемых одним страхом. Однако такой порядок не может продолжаться долго, он вызовет революцию. Сократ предлагал, подобно Спарте, ввести в Афинах закон против роскоши и бедности. Естественно, что это заставляло афинских «патриотов» с тугими кошельками подозревать его в проспартанских настроениях и обвинять в предательстве интересов своей родины. Хотя в действительности именно Сократ был истинным патриотом Афин. Он хотел их возрождения хотя бы ценой подражания аристократической Спарте, законы которой, установленные Ликургом, он считал более разумными.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: