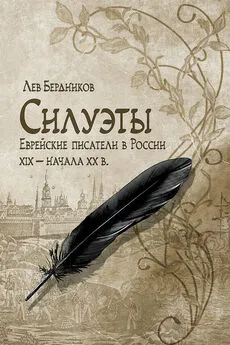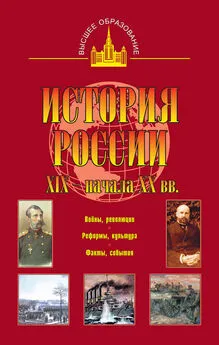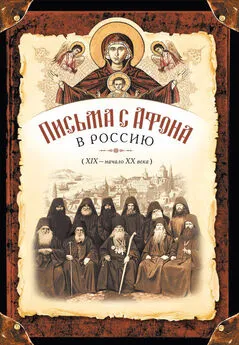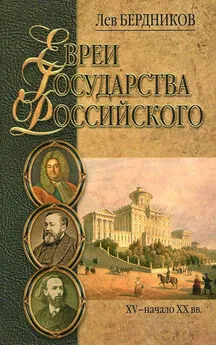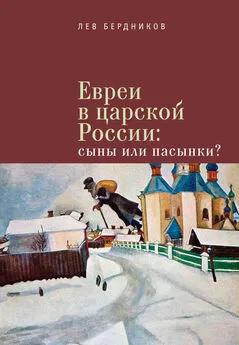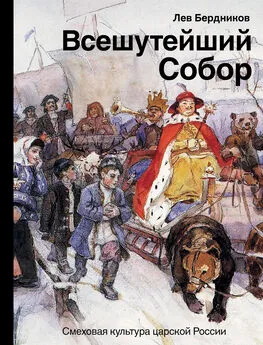Лев Бердников - Силуэты. Еврейские писатели в России XIX – начала XX в.
- Название:Силуэты. Еврейские писатели в России XIX – начала XX в.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Издать Книгу
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Бердников - Силуэты. Еврейские писатели в России XIX – начала XX в. краткое содержание
Силуэты. Еврейские писатели в России XIX – начала XX в. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Интересна и его статья «Несколько слов о евреях вообще и русских евреях в особенности» («Русский инвалид», 1859, № 58). Говоря о евреях как о наиболее образованном народе в Европе, как о творцах образцов юриспруденции и открывателях научных законов задолго до европейцев, Мандельштам задаётся (риторическим) вопросом, почему именно в России образованные евреи не имеют тех гражданских прав, которыми обладают самые низшие общественные слои коренного народа. Кроме того, отмечал он, евреям не дозволено в России иметь своих мерзавцев: в том, что натворили Мошка и Йошка, огульно обвиняют всех евреев; а вот злодейства Ивана и Степана – это только их личные преступления. Он утверждал, что евреи переимчивы и вполне способны к ассимиляции (в терминологии той эпохи – «сближении», «слиянии» с христианами). Великие мыслители-евреи писали на языках тех народов, среди которых жили: Иосиф Флавий (ок. 37-ок. 100) – на греческом, Моисей Маймонид (1135-1204) – на арабском, Бенедикт Спиноза (1632-1677) – на латинском, Бенджамен Дизраэли (1804-1881) – на английском, Генрих Гейне (1797-1856) – на немецком и т. д. Да и на ментальном уровне страна проживания неуклонно меняет характер и душевный склад рассеянного племени: Мандельштам говорит о легкомысленности французских евреев, о чопорности и набожности английских, педантизме немецких и о суеверии польских и турецких иудеев. И евреев Российской империи пасынками он вовсе не считает, напоминая о том, что в Крыму они жили ещё в глубокой древности, равно как и в Грузии, в коей иные княжеские роды, к примеру, Багратиони, признавали свои еврейские корни. Упоминает он и Хазарию с её иудеями-каганами и т. д. Главное же, что объединяет русских и евреев – один царь, одно знание и одна вера в будущее России. И Леон уверен: в случае равноправия евреев они и в морали, гуманизме, благотворительности, стремлении к просвещению – непременно станут равными с коренным народом.
Занимается Мандельштам и непосредственно литературным творчеством. В 1864 году он за собственный счёт печатает в Берлине драматическую повесть в стихах «Еврейская семья». Однако Цензурное ведомство не допустило её распространение в России ввиду «тенденциозности и предосудительности в содержании означенного сочинения». И это несмотря на верноподданический дух повести, завершающейся общим хвалебным хором «Боже, царя храни!», и на многократно повторяемые там славословия тому миропорядку, «когда все племена Отчизны стеною встанут вкруг Царя»! Но цензор был по-своему прав – Мандельштам действительно был необъективен, да и не мог быть объективным, когда воспевал величие и крепость духа своего народа. Вот какие слова он вкладывает в уста одного из персонажей драмы – раввина Иосифа:
…Былых веков
Лишь книги наши я открою, –
И я живу не только снова,
Не только юностью своей,
Но тысячью и чуждых жизней;
Всех мучеников нашей веры,
Всех тех великих мудрецов,
Героев, праведных царей,
Которых нам послал Господь
В течение трёх тысяч лет
По всем концам земного шара!
Поэтому и невозможно,
Чтобы народ такой, как наш,
Мог исторически погибнуть
Пока есть люди на земле…
Героизирует автор и мучеников иудейской веры. Так, Иосиф рассказывает ученикам поучительную историю о том, как еврейский ребёнок не пожелал поклониться языческому Зевсу и со словами: «Наш Бог один, о Израиль!» принял суровую казнь.
Принадлежность к еврейству знаменует здесь неразрывную связь и преемственность с деяниями славных пращуров богоизбранного народа. И на этом фоне особенно горьким и жгуче несправедливым выглядит положение семьи честного портного, еврея Баруха, отверженной, униженной и гонимой. Барух в сердцах восклицает:
…Позор
Невольно и невинно часто
Передаёт еврей в наследство
Своей семье; с моей нуждой
Сопряжена судьба детей;
Сто раз в неделю я, как нищий,
Прошу работы у вельмож;
Меня толкают, унижают,
Подшучивают надо мной;
Во мне не полагают чувства;
Я людям – жид, не человек.
А вот какие поистине пророческие слова говорятся здесь о немцах:
Ждать милости от них еврею –
Точно то же, что от скал
Просить воды, плодов древесных.
Мандельштам саркастически высмеивает господствующие антисемитские предубеждения того времени:
Чтоб слишком ходу не дать пьянству,
А с тем – и повода к буянству!
К торгам же, по всему пространству, –
Всех допускать, кроме евреев!» –
приводит он реплику некоего незадачливого юдофоба, облыжно обвинявшего иудеев в спаивании русского народа. Только в 1872 году книга была напечатана в Петербурге, причём со значительными купюрами.
Последним по времени изданием Мандельштама был поэтический сборник на немецком языке «Голоса в пустыне. Избранные еврейские песни» (Лондон, 1880), который так же, как и его «Стихотворения» 1841 года, остаётся достоянием, прежде всего, еврейской культуры. Исповедальность и непосредственность чувства облечены здесь в выразительную художественную форму, лишённую какой-либо выспренности и навязчивой рассудочности.
Под старость Леон, разорившийся на собственных изданиях, жил жизнью нелёгкой. Он пробавлялся подёнщиной в некоторых русских и заграничных печатных органах и не гнушался никаким заработком – писал то о работе почт, то о питейном сборе, то о государственном кредите, то о железных дорогах и т. д. Обширная библиотека, любовно собираемая им в течение всей жизни, была подвергнута описи и с согласия кредитора оставлена не во владении, а лишь на хранении у Мандельштама. Бодрость духа, однако, не покидала нашего учёного еврея. В часы досуга он деятельно трудился над составлением сравнительного словаря еврейских корней, вошедших в европейские языки, в том числе и в русский. Леон, по словам очевидцев, и на склоне лет отличался редкой отзывчивостью к чужому горю и обострённым честолюбием. «Его хлебосольство, радушие, предупредительность по отношению ко всем, кто обращался к нему, – сообщает его биограф, – напоминают собой черты родовитого барина старого времени, и с этим впечатлением гармонировала и внешняя осанка, исполненная достоинства, которая не покидала Мандельштама и в последние годы, когда он, одинокий и всеми забытый, доживал свой век в нищете, никому не жалуясь на своё положение».
Превратности судьбы, дававшие о себе знать при жизни Мандельштама, преследовали его и за гробовой доской. Так уж получилось, что он, всецело посвятивший себя еврейству, был поначалу похоронен на православном кладбище. А произошло это так: 31 августа 1889 года Леон скоропостижно скончался на пароходе, переплывавшем Неву. А поскольку никаких док у ментов при нём найдено не было, тело его было отправлено в покойницкую при Выборгской части, а затем и захоронено на Успенском кладбище. И только когда его хватились, и дворник дома, где он проживал, по приметам, платью и ключу от квартиры опознал усопшего, бренные останки Мандельштама были отрыты и 6 сентября перевезены на Преображенское еврейское кладбище…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: