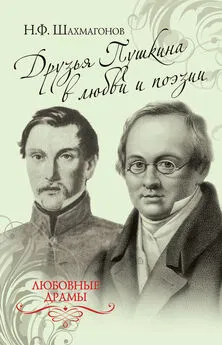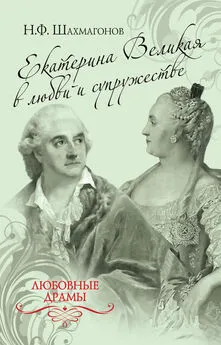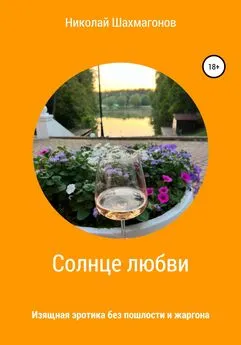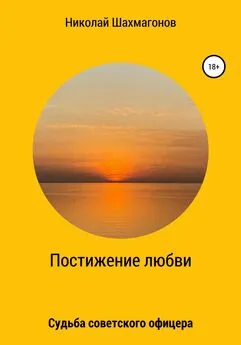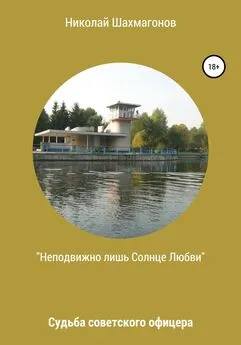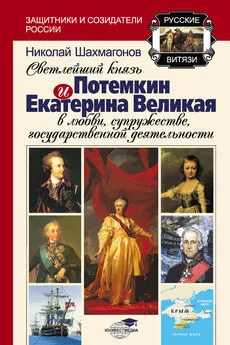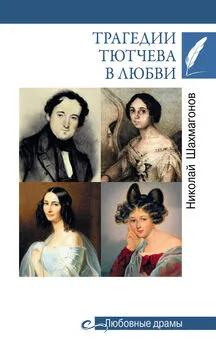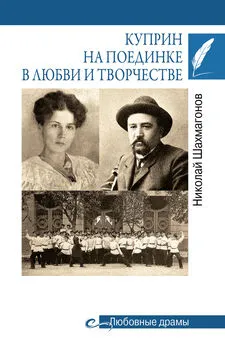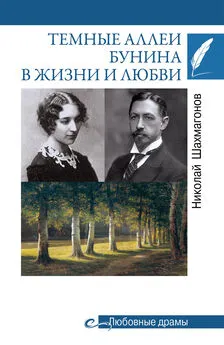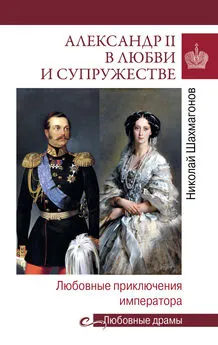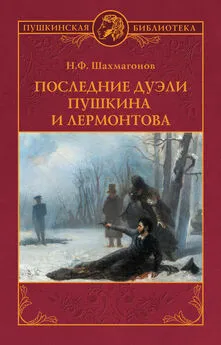Николай Шахмагонов - Друзья Пушкина в любви и поэзии
- Название:Друзья Пушкина в любви и поэзии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Вече
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4444-8823-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Шахмагонов - Друзья Пушкина в любви и поэзии краткое содержание
Друзья Пушкина в любви и поэзии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда композитор Сергей Прокофьев попросил Анну Григорьевну Достоевскую что-то написать в его альбом, который он хотел посвятить солнцу, она написала: «Солнце моей жизни – Фёдор Достоевский. Анна Достоевская…»
Но Лев Николаевич Толстой написал и другие слова о представительницах прекрасного пола:
«Смотри на общество женщин как на необходимую неприятность жизни общественной и, сколько можно, удаляйся от них. В самом деле, от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всём и множество дурных пороков, как не от женщин?»
Конец 1899 года. Толстому идёт 72 год. Колоссальный опыт в жизни, творчестве и, конечно, в любви. Он делает вывод:
«Главная причина семейных несчастий – та, что люди воспитаны в мысли, что брак даёт счастье. К браку приманивает половое влечение, принимающее вид обещания, надежды на счастье, которое поддерживает общественное мнение и литература; но брак есть не только не счастье, но всегда страдание, которым человек платится за удовлетворённое половое желание».
Тихон Иванович Полнер (1864–1935) историк, литератор и издатель, в книге «Лев Толстой и его жена. История одной любви», написанной в эмиграции, отметил:
«Творения Толстого теснейшим образом связаны с его интимной жизнью. Это утверждение относится не только к беллетристике. Оно всецело подтверждается внимательным рассмотрением философских, религиозных и политических работ великого автора. Говорят: наслаждайтесь произведениями искусства и оставьте в покое личность автора. Даже и это не верно. Часто биографические изыскания углубляют понимание произведений искусства. “Оставить в покое” личность проповедника и пророка – уже совершенно невозможно. И не потому только, что слова без дел не убеждают. Важно, что характер самой проповеди, её содержание, противоречия, эволюция воззрений бывают подчас необъяснимы без тщательного исследования интимной жизни проповедника. К такому убеждению я неизбежно склонялся каждый раз, когда пытался проследить фазы развития Толстого».
Как это подходит к очень многим биографиям прозаиков и поэтов. Словно в фарватере этих слов прошли любовные истории Ивана Сергеевича Тургенева и Фёдора Ивановича Тютчева, Ивана Алексеевича Бунина и Алексея Константиновича Толстова. Эти слова можно целиком отнести к судьбе Александра Сергеевича Пушкина и судьбам его друзей.
Каковы бы ни были жизненные ситуации – в чём-то схожи или, напротив, различны, но чтобы понять истоки драм и трагедий, – а без таковых редко обходились любовные страсти – но «оставить в покое личность» – значит вовсе ничего не понять ни в жизни, ни в творчестве, ни в любви того или иного человека.
Очень часто именно в детские годы закладываются счастье или несчастье в любви. Это особенно ярко отражено в биографиях, к примеру, Ивана Сергеевича Тургенева и Фёдора Ивановича Тютчева, о чём приведены рассуждения в книгах «Любовные драмы Русских писателей» и «Любовные драмы Русских поэтов». В судьбах этих мастеров слова всё связано с трагедиями первой любви. У Пушкина, о чём мы говорили в книге «Пушкин в любви и любовной поэзии», были иные проблемы – проблемы отношения к нему родителей. Ему, по его мнению, не хватало родительского тепла. Он был средним ребёнком в семье, и на нём отразились проблемы среднего ребёнка, которые нередки во многих семьях.
А вот Жуковскому, напротив, вполне хватало материнского тепла, поскольку обстоятельства сложились так, что он получал это тепло не только от родной матери, но и от супруги отца, которая отчасти стала его второй матерью. Отчасти лишь потому, что по близости всегда была родная мать.
Жуковский оказался воспитанником женского общества – рядом были родная мать Сальха, супруга отца Мария Гавриловна, старшая сестра Варвара Афанасьевна, которая одновременно была крёстной матерью и племянницы – дочери старших сестёр Варвары и Екатерины.
Это тоже наложило свой отпечаток на его судьбу, на любовные коллизии, выросшие в любовные трагедии и драмы.
Но ведь и они родились не на пустом месте. История рода будущего поэта богата на любовные драмы. С них мы и начнём разговор о любовных перипетиях самого Василия Андреевича.
Сын русского барина и турчанки
В восемнадцатом веке рождение внебрачных детей было явлением частым. Для людей бедных, скажем помягче, невысоких сословий, они становились неразрешимой проблемой. Недаром знаменитый государственный деятель Иван Иванович Бецкой, сам незаконнорожденный сын князя Трубецкого, незаконнорожденной дочерью которого стала будущая Императрица Екатерина Великая (см. мою книгу «Орлы Екатерины в любви и сражениях»), создал Воспитательный дом, в который принимались и в котором воспитывались незаконнорожденные дети. Причём всё было устроено так, что сдать в этот дом малютку можно было тайно.
Состоятельные же вельможи могли позволить себе воспитывать своё чадо. Даже выработано было негласное правило – фамилия давалась незаконнорожденному ребёнку отцовская, но в несколько усечённом виде, без первого слога. Так сын Трубецкого Иван стал Бецким, сын Репнина получил фамилию Пнин и так далее. Ну а само определение «незаконнорожденный» или «незаконнорожденная» было даже закреплено законодательно. Таковыми признавались: «Рожденные вне брака, хотя бы их родители потом и соединились законными узами; произошедшие от прелюбодеяния; рождённые более чем через 306 дней после смерти отца или расторжения брака разводом; все прижитые в браке, который по приговору духовного суда признан незаконным и недействительным».
Что же касается Василия Андреевича Жуковского, то он получил не отцовскую фамилию, которую, впрочем, и «усекать» на один слог было некуда, а фамилию бедного дворянина Жуковского, жившего в доме отца. Но зато он, в отличие от многих, себе подобных чад, вошёл в семью отца как равноправный ребёнок. Кстати, так же случилось и с упомянутым выше Иваном Ивановичем Бецким.
Появление на свет будущего поэта и его детство было тесно переплетено с семейными драмами его отца, его супруги и его возлюбленной. Русский историк и литературовед Пётр Иванович Бартенев (1829–1912), известный как основатель пушкиноведения и издатель исторического журнала «Русский архив», коснулся этой истории в своих воспоминаниях. Весной 1852 года писатель-беллетрист и издатель Михаил Петрович Погодин (1800–1875) посоветовал Петру Иванович заняться биографией Василия Андреевича Жуковского, пояснив, что это «будет угодно Государю». Он же рекомендовал Бартенева Авдотье Петровне Елагиной, представительнице семейства знаменитейшего. Пращур, как известно, был личным библиотекарем Екатерины Великой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: