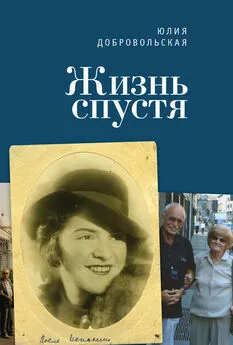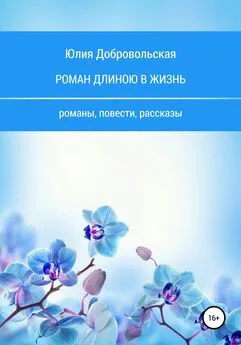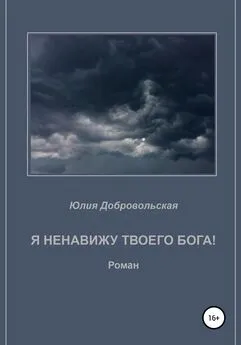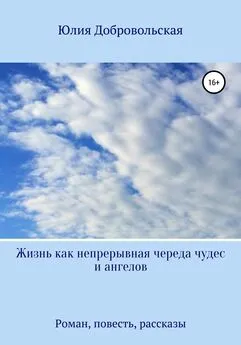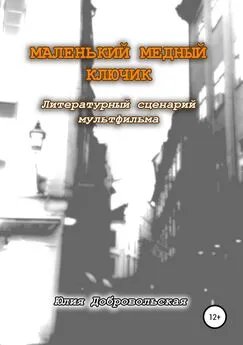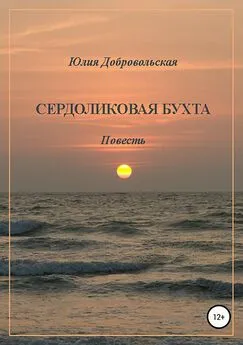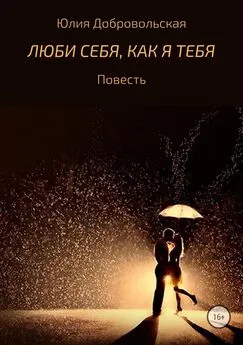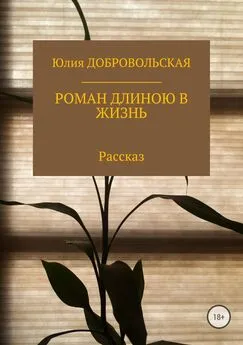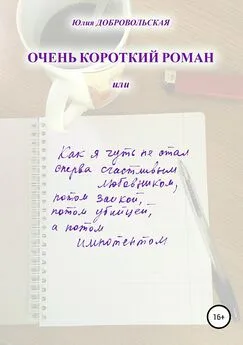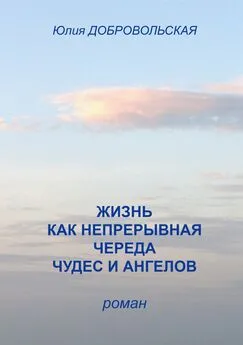Юлия Добровольская - Жизнь спустя
- Название:Жизнь спустя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89329-904-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Добровольская - Жизнь спустя краткое содержание
Эти записки напоминают застольные беседы в кругу друзей где-нибудь на московской кухне 60–70 годов, так неподдельна и сугубо доверительна их интонация. Они написаны «постскриптум», то есть после сотен страниц переводов, учебных пособий, словарей. «Я пишу только то, что врезалось в память и к чему лежит душа, – говорит Юлия Абрамовна, – а душа больше всего лежит к моим друзьям, тем, что разбросаны по свету и кого уже нет». Стало быть, «Постскриптум» заведомо задуман и написан «вместо мемуаров», как рассказы о друзьях. «Разлука с друзьями – это та дорогая цена, которую приходится платить за эмиграцию», – не раз повторяет автор.
Жизнь спустя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1950 году мне эту историю с Фогаццаро припомнили. В тот каннибальский год преподавателей Иняза выгоняли пачками. Выгнали и меня. Мотивировки были разные и всегда неуклюжие, а грех один – пребывание заграницей и, конечно, пятый пункт. В это время добивали «безродных космополитов», на очереди были «убийцы в белых халатах».
Студенты переполошились, ни за что не хотели со мной расставаться, написали петицию начальству… и ещё больше невзлюбили бедную Лабриолу. Они и в мирное время позволяли себе подурачиться, заходили в бакалейный магазин и спрашивали:
У вас есть сушёная лабриола?
Была, вся кончилась! – отвечала продавщица, не желая показать своей некомпетентности.
Софья Владимировна часто мне звонила, звала посидеть у неё. Она жила в арбатском переулке, в деревянном, одноэтажном отцовском особняке, непропорционально вытянутом, – небось, не раз достраивали в длину. За ним, впритык, построили многоэтажную школу, явно с расчётом, что хилый особнячок всё равно будет снесён. В 20-е годы, не дожидаясь уплотнения вроде того, что описано в «Собачьем сердце», Софья Владимировна, оставшаяся одна со старушкой няней, самоуплотнилась, то есть поселила приличных на её взгляд людей. Много лет она пыталась передать особняк в дар Моссовету, ей было не под силу его содержать, чинить крышу, но Моссовет не хотел лишних расходов, волынил. Себе она оставила комнату метров в 25, плотно-плотно заставленную мебелью красного дерева (кровать стояла за ширмой) – ей, наверное, дороги были эти вещи как память – и комнатушку для няни.
Однажды мой Саша, любитель подлёдного лова, поймал красавца-окуня, и я отнесла его Софье Владимировне. Радости не было конца: оказывается, у них в имении, в пруду, до революции водились такие же…
Я любила слушать, как Софья Владимировна и её подруга, бывшая актриса Смирнова, подтрунивали – нежно и негромко друг над другом, и беспощадно над собой, над своими хворями, над своей (упорной) старомодностью. Смирнова, обезножившая, с палкой, мгновениями ещё напоминала себя, давнюю, блистательную. Однако, какой живой ум у обеих, какой ненасытный интерес к окружающему! А у Софьи Владимировны ещё и поразительная работоспособность. Один словарь, сочинённый в одиночку, чего стоит!
Я в предисловии к своему русско-итальянскому словарю, тому, что был перепечатан пиратом в Москве, написала: «Не могу не назвать с благодарностью имя Софьи Владимировны Герье, известнейшей русской итальянистки и лексикографа: это она в далёкие пятидесятые годы наставила меня на этот путь». Эта фраза попалась на глаза В. М. Венкину, который пишет о С. В. Герье книгу; он попросил отправлявшуюся в Милан Т. Н. Жуковскую, старшего сотрудника Дома Марины Цветаевой, разыскать меня и проинтервьюировать. Что она и сделала. Из знавших Софью Владимировну, кажется, в живых я одна.
12. «Вам не понять моей печали»
(Музыка Гурилёва, слова Бешенцова)
Я принадлежу к числу тех, кто считает лишнее необходимым; моя любовь к вещам обратно пропорциональна их пользе. Это я так пытаюсь подвести теоретическую базу под свой отказ от номенклатурных благ, от госдачи за высоким забором с обслуживающим персоналом вплоть до киномеханика, от санатория Барвиха и подобных шикарных мест для отдыха. Каждый раз, как Саша сообщал:
– Опять удивляются, почему мы не берём дачу! Может, возьмём? Настаивают.
Я без особых доводов увиливала.
В отпуск мы ездили дикарями, обычно с Гинзбургами, на нашей «Победе», куда-нибудь, где тепло и водится рыба. Отмахать несколько тысяч километров нам ничего не стоило. Витя, по его признанию, подкаблучник, сам себе противоречил, пилил Нину за курение; она ныла, де, без папиросы у неё головная боль и тошнота; Витя называл её «физиологиней» (вообще-то считал богиней), отчитывал за то, что забыла дома икру и фотоаппарат. В хорошие дни фонтанировал – всегда был остёр на язык («мои студенты называют коллоквиум «каляквиумом»). Вечером, кроме игры в «пятьсот одно», была ещё интеллектуальная «в знаменитых людей» (кто назовёт больше знаменитостей на названную букву), азартная. 25 августа справляли мой день рождения; помню съели по такому случаю арбуз килограммов на восемь. Бывали и чепе. Например, Нина потеряла спицу и коллектив лихорадило, пока поиски не увенчались успехом и она не смогла вязать дальше. В Архиповке застали повальное увлечение американским боевиком: мальчишки предлагали купить две гравюры на булыжниках – на одном Тарзан, на другом Джейн. Наш хозяин уверял, что в Геленджике в больнице лежат с переломанными руками и ногами до двадцати «тарзанов»: на речке была «тарзанка» – нечто вроде лианы, с которой ребята прыгали в воду. Говорят, эта погоня за сильными ощущениями – игра в «тарзанов» – в ходу и у нынешних российских мальчишек.
Вот что сохранила память, неизвестно почему. Вещи поважнее не приходят в голову.
Это был период накопления книг. Книжный шкаф у Саши был полон, но я застала в нём полное собрание сочинений Потапенко. (Вспомнилось чеховское: «В воскресенье у меня будет бог скуки Потапенко»). Саша читал всё подряд, охотнее всего переводные романы.
– Смотри, смотри, что пишет Голсуорси (тогда зачитывались «Сагой о Форсайтах»): «Бог наградил Ирэну тёмно-карими глазами и золотыми волосами; это странное сочетание, притягивающее мужские взгляды, – признак слабого характера». Разве у тебя слабый характер?!
О трудоустройстве не могло быть и речи. И я занялась литературным переводом – всё та же С. В. Герье нащупала у меня соответствующую шишку: прочитала мой первый опус, новеллу Джованни Верги, и благословила, а издательство «Художественная литература» издало. Правда, до реабилитации мои переводы подписывали друзья-знакомые с чистой анкетой. Например, перевод толстого тома «Итальянская народная партия» Канделоро подписала Орнелла Мизиано.
Догадливый заведующий иностранным отделом Института научной информации – его сотрудники должны были знать языки – всех нас, уволенных из Иняза, чохом взял к себе преподавать. По-чёрному, однако, за гроши. Согласились, конечно, хотя надо было ездить к чёрту на рога.
А меня подобрал ещё и академический Интститут истории архитектуры. Средний возраст учеников 70 лет, но какие эрудиты, какие умницы – интеллигенция! Мы сразу спелись. А с самой молодой, Анной Ивановной Опочинской подружились на многие годы, включая итальянские… Как известно, мир тесен: Анна Ивановна, специалист по Палладио, ездила в Виченцу к светиле Ренато Чевезе и узнала у него мой адрес.
К этому времени кое у кого дошли руки и до Саши. Ванников оказался бессилен, и руководителя оптической промышленностью запихнули директором захудалого московского заводика. Саша давно этого ждал. Чтобы меня не расстраивать, хорохорился:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: