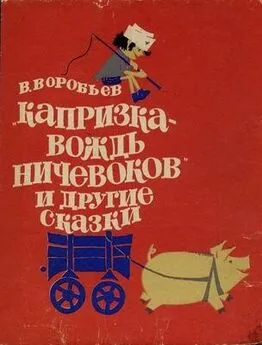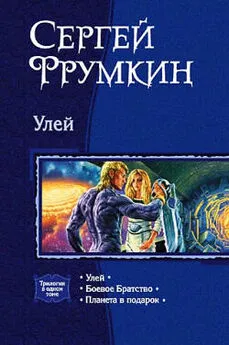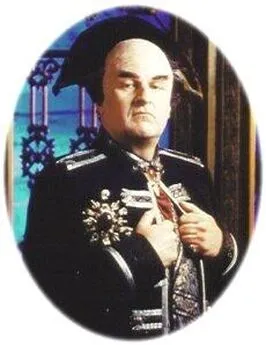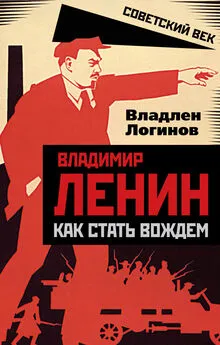Владимир Фрумкин - Певцы и вожди
- Название:Певцы и вожди
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Фрумкин - Певцы и вожди краткое содержание
В первой части своей книги «Певцы и вожди» В. Фрумкин размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы.
Вторая часть посвящается неподцензурной, свободной песне. Здесь воспоминания о классиках и родоначальниках жанра Александре Галиче и Булате Окуджаве перемежаются с беседами с замечательными российскими бардами: Александром Городницким, Юлием Кимом, Татьяной и Сергеем Никитиными, режиссером Марком Розовским.
Книга иллюстрирована редкими фотографиями и документами, а открывает ее предисловие А. Городницкого.
В книге использованы фотографии, документы и репродукции работ из архивов автора, И. Каримова, Т. и С. Никитиных, В. Прайса.
Помещены фотоработы В. Прайса, И. Каримова, Ю. Лукина, В. Россинского, А. Бойцова, Е. Глазычева, Э. Абрамова, Г. Шакина, А. Стернина, А. Смирнова, Л. Руховца, а также фотографов, чьи фамилии владельцам архива и издательству неизвестны.
Певцы и вожди - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во второй половине 30-х годов две отмеченные выше главные темы психологического воздействия сосуществовали и переплетались в прессе и радио, в поэзии и прозе, в искусстве плаката, в театре и кино. Песня на такую эластичность оказалась неспособной, она не примкнула к хору озлобленных, охрипших от ярости голосов, призывавших к сыску и рас праве. Погромные стихи Д. Бедного («Пощады нет!»), Джамбула Джабаева («Уничтожить!») или П. Антокольского («Ненависть») так и остались стихами, никто не положил их на музыку. Традиционный для дореволюционных политических гимнов мотив классовой ненависти при тих, передвинулся на периферию песни и подчинился общему пафосу прославления сущего: упоминание о враге (это, как правило, внешний враг) связывается с мотивом защиты социалистического Отечества («Но сурово брови мы насупим, / Если враг захочет нас сломать»).
Песне хватило деликатности, чтобы не включиться в кровавую оргию 30-х годов. Грех подстрекательства к убийствам или их восторженного одобрения ее не коснулся. Над ней тяготеет другой грех – соучастие в создании миража, который для многих стал «реальнее действительности». [52] М. Геллер, А. Некрич, «Утопия у власти», т. 1, Лондон, 1982. стр. 291.
Мифическое светлое будущее, которое вроде бы еще только строилось, уже было воздвигнуто в душах людей. Песня – талантливый манипулятор и гипнотизер, великий ловец человеческих душ – сыграла в этой роковой операции далеко не последнюю роль.
Ловко обвела она вокруг пальца и иностранных граждан: перелетев за рубеж, песня стала важнейшим элементом совет ского камуфляжа, улыбчивой посланницей гуманной социалистической страны. Государство-монстр напялило и выставило миру ярко раскрашенную маску. Многие приняли ее за человеческое лицо.
Песни меняют цвет, или как Москва перепела Берлин
Разворачивайтесь в марше!
В. Маяковский, «Левый марш»Немецкая нация наконец-то готова найти свой жизненный стиль. Это стиль марширующей колонны.
Альфред Розенберг[53] Alfred Rosenberg, Gestaltung der Idee, München, 1936, S. 303. Цит. по: Joseph Wulf, Musik im Dritten Reich. Eine Dokumentation. Sigbert Mohn Verlag, Gutersloh, 1963, S. 242.
В стихии большевистской революции… появились новые лица, раньше не встречавшиеся в русском народе. Появился новый антропологический тип, в котором уже не было доброты, расплывчатости, некоторой неопределенности очертаний прежних русских лиц. Это были лица гладко выбритые, жесткие по своему выражению, наступательные и активные. Это тип столь же милитаризованный, как и тип фашистский. С людьми и народами происходят удивительные метаморфозы… Впоследствии такие же метаморфозы произошли в Германии…
Николай Бердяев[54] Н. Бердяев, «Самопознание», YMCA PRESS, Париж, 1949, стр. 249–250.
Коммунизм – это фашизм с человеческим лицом.
Сюзан ЗонтагПримерно в начале 70-х, года за два до отъезда из СССР, я услышал о печальной судьбе одной кандидатской диссертации, написанной в Киеве после войны и посвященной музыке Третьего рейха. Диссертацию защитить не дали, на тему наложили табу. Автор, однако, от удара оправился, тему поменял, сделал кандидатскую, затем докторскую, дослужился до старшего научно го сотрудника ленинградского НИИ театра, музыки и кинематографии.
Не хотелось мне бередить старую рану маститому коллеге, но велик был соблазн: тема эта сильно меня интересовала, а материалов почти не было. Услышав мой вопрос: не сохранилось ли чего от той работы – плана, тезисов, библиографии? – Абрам Акимович Гозенпуд как-то потускнел, отвел глаза: дело давнее, ничего не помню, ничего не осталось. И быстро переменил тему разговора.
Дело, конечно, давнее, но испуг выглядел очень уж свежим.
Я вспомнил этот диалог и этот испуг, когда, уезжая, проходил в марте 1974-го пограничный досмотр в ленинградском аэропорту. Щуплый, полу интеллигентного вида сержант Женя, пропалывая мою картотеку, вытащил из нее почти всё, что относилось к культуре фашизма – немецкого и итальянского. На мое протестующее недоумение сержант реагировал укоряю щей усмешечкой: не разыгрывайте наивность, мы-то с вами прекрасно понимаем – возможны нездоровые ассоциации и прочие штуки…
Горевал я об утраченных карточках недолго. На Западе всё довольно быстро возместилось и даже нашлось кое-что новое, дающее пищу не для одних только «нездоровых ассоциаций». Углубившись в эту тему, я обнаружил, что в музыке гитлеровской Германии и сталинской России, помимо сходных тенденций (тотальная национализация «музыкального хозяйства», жесткое декретирование «доступности», «народности» и «реализма», враждебность к высокой духовности, к поискам нового, наступление на джаз, превращение марша в господствующий ритм массовой культуры), были и прямые заимствования.
Посредствующим звеном служили немецкие коммунисты. Заимствования шли преимущественно в одном направлении: с востока на запад. Стремительно росший идеологический младенец – национал-социализм – нуждался в усиленном питании. Необходимо было, в частности, срочно создать свою литургию – партийные псалмы, хоралы и гимны, несущие в массы новую веру. Удивительно ли, что в дело пошли и некоторые блюда, изготовленные поварами старшего по возрасту ленинского социализма!
«Раньше мы были марксисты…»
Если бы Ленин, перед тем как покинуть этот мир, побывал в Германии, он услышал бы, как его любимую «Смело, товарищи, в ногу» распевают недавно сформировавшиеся СA (Sturm Abteilung – штурмовые отряды). Звучала у них эта песня живее, чем в России или у немецких коммунистов, – «im fotten Marschenrhythmus». [55] В бойком (бесшабашном) ритме марша. См. Hans Bajer, «Lieder machen Geschichte». – In: Die Musik, № 9, Juni 1939, S. 592. См. также: Vladimir Karbusicky, Ideologie im Lied – Lied in der Ideologie, Musikverlage Hans Gerig, Koln, 1973, S. 109.
Но мелодия узнавалась легко. Как ей обрадовался Ленин тогда в Шушенском, летом 1898-го, когда Фридрих Ленгник, прибывший в ссылку, чуть не с порога выложил свой сюрприз – новую пес ню, долгожданную: первый русский (оригинальный, не переведенный) боевой гимн, звонкий, мажорный, без тени размагничивающего слюнтяйства и уныния народнического репертуара. Вышел он таким не по наитию, не из чистого вдохновения: его автор, Леонид Радин (1860–1900) – ученый-химик, поэт, эссеист и революционер, – хорошо знал, какие песни нужны зреющей русской революции: «Надо, чтоб песня отвагой гремела, / В сердце будила спасительный гнев». Вскоре после этих стихов и сложил Радин свою песню – в одиночной камере Таганской тюрьмы:
Дружно, товарищи, в ногу,
Духом окрепнув в борьбе, [56] * Первоначальный вариант. Впоследствии пелось: «Смело, товарищи, в ногу, / Духом окрепнем в борьбе».
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе…
Интервал:
Закладка:
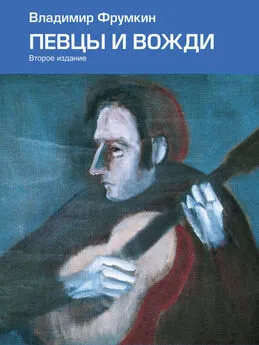

![Энн Маккефри - Хрустальная певица [= Певцы Кристаллов]](/books/126919/enn-makkefri-hrustalnaya-pevica-pevcy-kristall.webp)