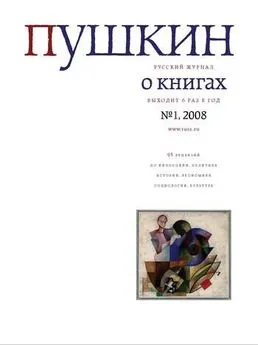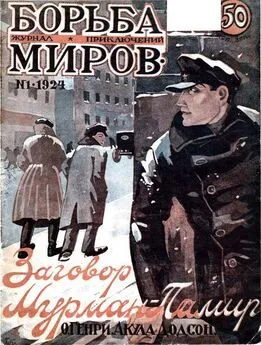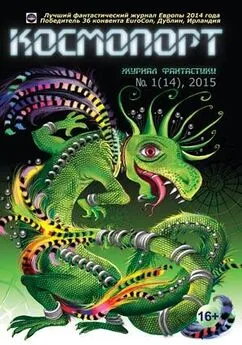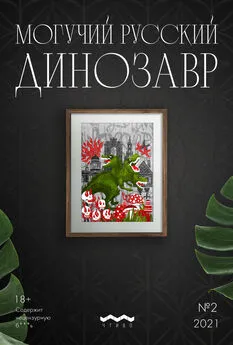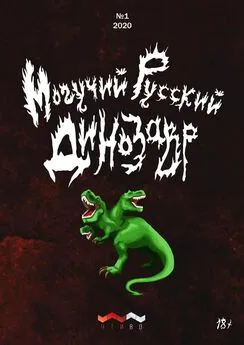Русский Журнал - Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008
- Название:Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Array
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Русский Журнал - Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008 краткое содержание
В номере:
Статьи Михаила Маяцкого, Иммануила Валлерстайна, Альберто Тоскано, Славоя Жижека, Дэвида Симпсона, Алексея Апполонова, Александра Бикбова, Майкла Томаски, Шона Коллинза, Аарона Бенанава, Дика Ховарда, Валерия Подорога, Эманюэля Ландольта, Чалмерса Джонсона, Бориса Межуева, Вигена Акопяна, Карена Свасьяна, Ивана Лабуева, Романа Ганжи, Ильи Дедекинда, Михаила Афанасьева, Екатерины Росляковой, Олега Игнатова, Андрея Лазарева, Ольги Эделъман, Александра Антощенко, Игоря Дубровского и др.
Вы пройдетесь по книжным магазинам города и совершите «покупки» с Модестом Колеровым, Борисом Куприяновым, Михаилом Рогожниковым, Артемом Смирновым и Сергеем Мазуром.
В номере в качестве иллюстраций использованы работы русских художников ХХ века.
Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. 1921–1923 / Сост. В. Г. Макаров, В. С. Христофоров. М.: Русский путь, 2005. 544 с. Тираж 3000 экз.
В прежние годы сказал бы: так закрывают тему навсегда. Имел бы в виду, что – после этого циклопического труда профессиональных историков-архивистов – некогда по бедности привечаемые сочинения про «философский пароход» (несколько пароходов и других транспортных средств), на котором Советская власть выслала из страны двести недостаточно лояльных, но достаточно влиятельных среди интеллигенции деятелей культуры, общественности и высшей школы, больше не смогут рассчитывать на читателя. В ней, двадцатилетней давности публицистике, с опорой на эмигрантскую прессу и мемуары, была дана емкая риторическая формула: авторитарный большевизм, строя тоталитаризм и идеократию, не терпел разномыслия – и изгнал властителей дум. Соль земли, пощаженная судьбой, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский, С. Л. Франк, И. А. Ильин и другие, расцвела в зарубежье. Россия погрузилась во мглу. Ленин оказался благодетелем.
Составители этого труда в документальных подробностях воспроизвели кухню и логику этого мероприятия, показав, насколько систематически, но и творчески, подошли к делу большевики: изучили материал, привлекли рецензентов, составили списки, подсократили их по просьбам просителей, проинструктировали высылаемых, выслали.
Из опыта высылки можно сделать несколько предварительных выводов (не могу сказать, что именно этот корпус документов убеждает меня в этом, но он пока и не разубеждает меня): (1) решено было выслать вовсе не только «властителей дум», (2) решено было выслать не столько даже властителей именно «дум», (3) решено было выслать вовсе не только нелояльных, но и тех, кто был вполне лоялен. Предполагаю, что высылались те, кто потенциально представлял из себя (пусть даже лояльную власти) небольшевистскую интеллектуальную инфраструктуру (в высшей школе и печати), вокруг которой могла формироваться – не то чтобы альтернативная, а просто независимая «повестка дня». Почему в этом возникла необходимость? Потому что: (1) опыт перехода от военного управления страной к мирному, (2) задачи технологической реконструкции народного хозяйства, (3) опыт привлечения общественности к борьбе с голодом в 1921 году, (4) опыт восстановления неполитических коммуникаций с Западом в 1921–1922, (5) опыт использования «сменовеховства» в деле «приручения к власти» массовой непартийной интеллигенции в 1921–1922 годах, – показали, что массы интеллигенции и служащих нелояльны. И для обеспечения управляемости советского аппарата необходим операциональный и монопольный контроль за «общественной дипломатией» вне страны и за общественными настроениями – внутри. Можно сказать, что акт высылки несоветских интеллигентов из Советской России – был лишь эпизодом советского террора начала 1920-х годов против остатков политической оппозиционности (эсеров, меньшевиков, кадетов) и имел своей короткой тактической целью обеспечить комфортное «замещение» подавленной, глухой, идейно раздробленной идеологической оппозиции большевикам – их новым идейным инструментом – абсолютно контролируемой высшим партийным руководством и ГПУ движением «Смена Вех» («сменовеховством»). Это техническое решение власти я не могу считать своеобразным актом признания ею какого-то особого влияния высланных или их особой несовместимости с будущей идеократией. В конце концов, на «пароход» не попали и остались в России, ничего не изменив, пусть и лояльные, но во все не коммунистические Г. Г. Шпет, А. Ф. Лосев, С. А. Аскольдов, П. А. Флоренский, В. И. Вернадский, С. Ф. Ольденбург, В. Н. Муравьев, С. А. Котляревский, М. О. Гершензон, не говоря уже о не столь идейно активных многочисленных «спецах»: экономистах, инженерах, военных.

Но главное, что заставляет меня считать «философский» мотив неоконченным, а документальную историю недочитанной, – так это сам же этот сборник документов. Широко известны, например, смелые, идейные показания Н. А. Бердяева перед высылкой, рассказ о его дискуссии с Дзержинским в стенах ВЧК и т. п. В этой новой книге – ряд иных показаний, иных героев высылки. И вот что следует из их почти единодушного хора. Все они – лоялисты, страдают от акта высылки, не хотели бы порывать корней с пореволюционной Россией, несмотря ни на какой террор, видели бы для себя возможности дальнейшей работы при идеократической диктатуре и т. п. Можно, конечно, учесть, что террор и тоталитаризм 1930-х были впереди, но ведь казни, бессудные расстрелы и повешения периода Гражданской войны, цензура, концентрационные лагеря и ссылки – уже были! Значит ли это, что жертвы «философского парохода» не считали их дозу критичной?
Н. В. Савич. После исхода: Парижский дневник. 1921–1923 / Публ . Н. Н. Рутч-Рутченко, В. Ж. Цветков. М., 2008. 568 с. Тираж 2000 экз.
Качественная, достойная работа, делающая честь издательству «Русский Путь». Автор дневника – «белый» политик, член существовавших под разными названиями правительств глав белой государственности на Юге России А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Сегодня такая литература, при всей ее драгоценности, количественно измеряется десятками, если не сотнями томов, что уже выводит ее за рамки непросвещенного чтения – в поле чтения более квалифицированного, способного сличить и сопоставить. Профессиональное же чтение утомлено ставшими уже привычными острыми столкновениями образов и миров: между текущей архивной перепиской или дневниками участников и наблюдателей событий – и их же позднейшими мемуарами, между активным переживанием актуальной истории как собственной живой судьбы – и переживанием прошлого и своей судьбы как музейного «урока».
Но в профессиональном чтении это качественное накопление «исторической плоти» складывает из фрагментов много значимых «открытий-для-себя». Годами они складываются из деталей и один импульс обнаруживает их большую логику. Вот и отсюда последний камень в постройку завершает очевидность: и сам Н. В. Савич, и хорошо известные науке идейные деятели эпохи Временного правительства и Гражданской войны (а потом и эмигрантской идейно-политической сцены) П. Н. Милюков, А. В. Карташев, В. В. Зеньковский, С. Ф. Ольденбург (отец), В. В. Вернадский (отец), П. Б. Струве, М. В. Бернацкий, Г. В. Вернадский (сын), П. Н. Савицкий, П. И. Новгородцев, С. С. Ольденбург (сын), К. Н. Соколов, Н. В. Устрялов, Ю. В. Ключников, А. Д. Билимович, М. М. Винавер и многие другие – не просто политики-публицисты, а и дюжие чиновники и уполномоченные Временного, белых централизованных, локальных и национальных правительств. Их руки – не были в перчатках, но их внутренний моральный закон никогда не исчезал, и их опыт государственной Realpolitik, не вытоптавший ни моральный закон, ни пафос белой борьбы, тем не менее никого из них не заставил капитулировать перед государственным бременем. Может быть, кто-то из них капитулировал перед большевиками (в которых им открылся «дух государства»), но лишь после открытой, не просто общественной и политической, а самой лапидарной государственной же борьбы. В этом их отличие от пассажиров «философского парохода».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: