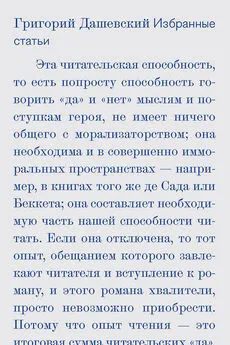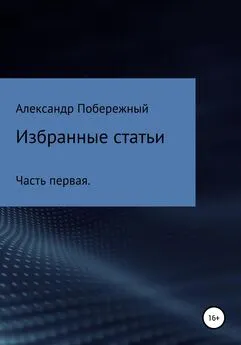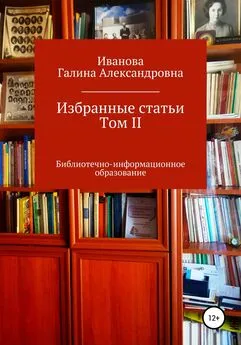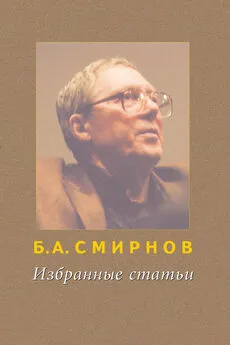Григорий Дашевский - Избранные статьи
- Название:Избранные статьи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-197-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Дашевский - Избранные статьи краткое содержание
Избранные статьи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другой прием еще проще: Зализняк предлагает вообразить, что иностранный лингвист-любитель поведет себя так же, как отечественные, и начнет находить следы своего языка на нашей родной земле: «Чтобы почувствовать, какое надругательство над языком представляют собой подобные „истолкования“, вообразите, что английский любитель, столь же невежественный и тенденциозный, как АТФ, взялся растолковывать название Красная площадь и „разгадал“ его так: это название – слегка искаженное английское crusty plot , „покрытый коркой земельный участок“. Нетрудно представить, какое чувство вызвала бы подобная изобретательность иностранных лингвистов-любителей у русской публики, особенно если бы каждый из них заявил, что это именно его национальные войска стояли на Красной площади, когда ей давали такое название. Но АТФ и не рассчитывает на одобрение в Венесуэле. Ему достаточно того, чтобы вызвать энтузиазм у простаков в России». Именно этот простой полемический прием, кажется, должен вызывать у поклонников Фоменко особое беспокойство: тем, кто считает, что их обманули, унизили, низвергли во тьму, всегда кажется, что они видят всех, а их не видит никто, что на них не может упасть ни чужой взгляд, ни свет разума.
В книге Зализняка свет разума, как всегда у него, светит ровно и сильно, все ясно, понятно, убедительно, за исключением одного только пункта. Кому она адресована? Тем, кто восприимчив к его аргументам, построенным на фактах, логике и законах лингвистики, доказывать вздорность построений Фоменко не нужно, они и так не принимают их всерьез, а поклонникам Фоменко, наоборот, ничего доказать невозможно, они заранее знают, что вся «официальная наука», включая лингвистику, это часть заговора фальсификаторов.
Сам Зализняк это признает, но все же считает, что есть и те, «кто видит в работах АТФ именно научную концепцию и, следовательно, готов определять свою позицию, взвешивая аргументы за и против, а не на основе общих ощущений типа „нравится / не нравится“. Мы хотели бы также помочь тем, кто встречает с естественным сомнением каскад невероятных новшеств, низвергающихся на читателя из сочинений АТФ, но не берется сам определить, достоверны ли факты, на которые ссылается АТФ, и вытекают ли из них в действительности те выводы, которые он делает».
Может быть, сколько-то таких людей и найдется, но дело все-таки не в них. Даже если бы ни одного такого читателя в реальности не нашлось, книга Зализняка все равно была бы необходима. Не ради прояснения чьих-то умов, а просто чтобы хоть однажды была ясно прочерчена граница между светом разума и потемками обиженного на весь мир воображения. Вот эта книга и есть такая граница.
май 2010
«Предательство интеллектуалов» Жюльена Бенда
О французском философе, писателе и журналисте Жюльене Бенда, прожившем почти 90 лет (1867–1956) и написавшем множество книг, сейчас помнят как об авторе всего лишь одной книги, вышедшей в 1927-м, а из самой этой книги помнят только ее название, которое в вышедшем только что русском издании переведено как «Предательство интеллектуалов». «Интеллектуалы» – это непереводимые «клирики» французского оригинала, слово, которое, как сказано в комментарии переводчика, «первоначально обозначало лицо духовного звания, затем к этому прибавились значения „образованный человек“, „ученый“». «Интеллектуалы» для Бенда – «все, кто в своей деятельности, по существу, не преследует практических целей и, находя отраду в занятиях искусством, или наукой, или метафизическими изысканиями – словом, в обладании благом невременным, как бы говорит: „Царство мое не от мира сего“». Этих служителей наднациональной и надвременной церкви вечных ценностей Бенда противопоставляет «мирянам» (в русском переводе «мирские»; единственное, кажется, не очень удачное решение блестящего в целом перевода В. Гайдамака), то есть тем, кто живет практическими, земными, «реалистическими» целями.
Книга Бенда стоит в ряду катастрофических книг межвоенного периода (вроде «Заката Европы» Шпенглера или «Восстания масс» Ортеги-и-Гассета), когда множество наблюдателей видели, что происходит какая-то грандиозная перемена, и пытались сформулировать, что же именно кончилось и что именно началось. Диагноз, который ставит Бенда, ясен из названия книги: «Мне представляется важным, что человечество, как никогда охваченное земными страстями, слышит от своих духовных вождей заповедь: „Будьте верны земле“»; «Интеллектуал не только побежден, он ассимилировался. Ученый, художник, философ привязаны к своей нации так же, как пахарь и торговец; люди, устанавливающие ценности, устанавливают их для нации; служители Иисуса защищают национальное».
Обвинения Бенда оказались многократно подтверждены и усилены страшными событиями 1930–1940-х годов – об участии европейских интеллектуалов в тоталитарных движениях и режимах уже написаны тысячи книг (из недавно вышедших по-русски можно назвать «Забытый фашизм. Ионеско, Элиаде, Чоран» Александры Ленель-Лавастин или «Закат немецких мандаринов» Фрица Рингера). Но именно из-за того, что эти движения обернулись таким чудовищным злом, задним числом тезис Бенда подменился и упростился – вместо вопроса «Зачем вы отреклись от своих ценностей ради чужих (пусть и законных на своем месте)?» ставится вопрос «Как вы могли пойти на службу злу?». А это совсем другой вопрос, обращенный не специально к интеллектуалам, а ко всем людям.
Поэтому сейчас у Бенда интересно читать не инвективы против тех, кто предал идеалы, а рассуждения о самих этих идеалах, об их отличии от идеалов «мирян». Истинный интеллектуал – плохой патриот. «Я готов признать, что именно слепой патриотизм делает нации сильными. Патриотизм Фенелона или Ренана не тот, что укрепляет империи. Остается решить, призваны ли интеллектуалы укреплять империи». Интеллектуал любит людей лишь абстрактно. Гуманизм – «это чистая страсть ума, не предполагающая никакой земной любви; нетрудно помыслить существо, углубляющееся в понятие „человеческое“ и не имеющее ни малейшего желания лицезреть человека; такую форму принимает любовь к человечеству у великих аристократов духа – у Эразма, Мальбранша, Спинозы, Гете, людей, вероятно мало расположенных бросаться в объятия ближнего»; а любовь к конкретным людям – это «сердечная склонность и как таковая свойство плебейских душ; оно ясно обозначается у моралистов в ту эпоху, когда высокий интеллектуализм сменяется у них сентиментальной экзальтацией, то есть в XVIII веке, особенно у Дидро, и достигает апогея в XIX веке в творчестве Мишле, Прюдона, Роллана». Мужество – высшая добродетель для поэтов и полководцев, а «люди духовные, от Сократа до Ренана, считают мужество добродетелью, но лишь второго плана».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: