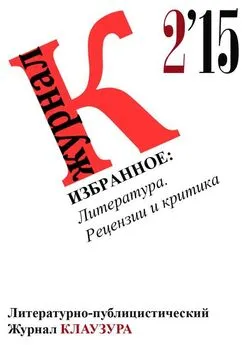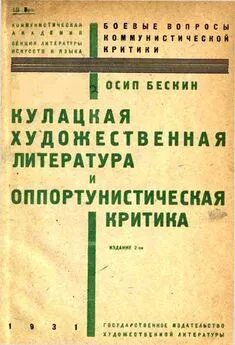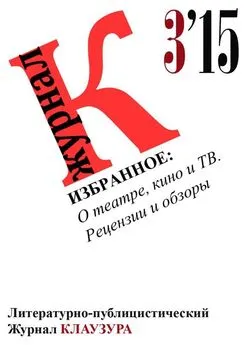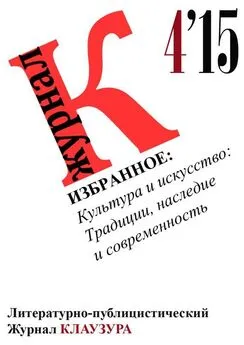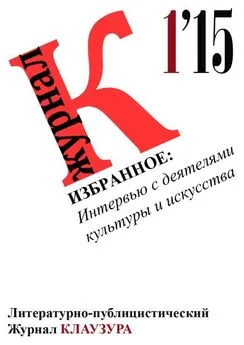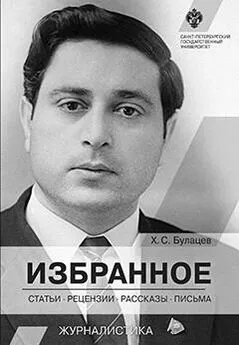Журнал КЛАУЗУРА - Избранное: Литература. Рецензии и критика
- Название:Избранное: Литература. Рецензии и критика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Ридеро»
- Год:неизвестен
- ISBN:9785447429300
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал КЛАУЗУРА - Избранное: Литература. Рецензии и критика краткое содержание
Избранное: Литература. Рецензии и критика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так незаметно мы с вами подошли к очень важной теме – теме театра. И не только потому, что театр присутствует в «Непричастных», а сам Павел Алексеев был (и в душе, насколько я понимаю, остается) человеком, к театру причастным.
Кто только не писал за последние сто лет о грядущей, наступающей или уже наступившей смерти театра, могильщиками коего называли сперва – кинематограф, потом – телевидение, в последнее время – цифровые технологии… (Впрочем, о смерти литературы толковали не меньше.) Ан жив курилка! При всех экономических и прочих сложностях нашего времени на месте одного прогоревшего театра вырастают три новых – точь-в-точь как на месте отрубленной головы дракона. И вот что еще любопытно: литературу я поставил в один ряд с театром не случайно; при всем желании не могу вспомнить плохого произведения, театру посвященного – хоть «Театральный роман» Михаила Булгакова вспомните, хоть «Черных лебедей» болгарина Павла Вежинова, хоть повести русских американцев – «Улицу Франсуа Вийона» Аркадия Львова и «Что ему Гекуба» Алексея Ковалева… На мой взгляд, «Непричастные» занимают свое – и достойное – место в ряду. Но это так, a propos2.
Главное же – вынеся действие на сцену и наблюдая его из зала (или из-за кулис, что в данном случае то же самое), мы обретаем возможность судить отстраненно, непредвзято, причем совершенно не важно, с какой позиции – зрителя или режиссера; еще вопрос, кто более взыскательный судья.
А там, на подмостках, идет калейдоскопическая смена действий – ведь значительная часть книги представляет собой короткие и очень короткие, вплоть до миниатюр, рассказы (о смерти рассказа тоже, между прочим, говорили до мозолей на языке, утверждая, будто современный читатель воспринимает лишь повествование эпическое, романно-многотомное – так вот же они вам!). Да, рассказы неравноценные (что не всегда есть благо), несхожие (а вот это уже благо всегда), но объединенные авторским отношением. Причем не только к миру, к жизни и к собственноручно и собственнодушно сотворенным героям), но и тексту. Ибо их отличает только Алексееву присущее чувство внутреннего ритма фразы, интонации и ракурса. Говоря «только Алексееву присущее», я отнюдь не подразумеваю, будто автор – величайший из всех. Этим я оказал бы ему, прямо скажем, медвежью услугу. Нет. И я даже под угрозой расстрела не смог и не стал бы писать, как он (читать – иное дело, это я готов). Я лишь хочу сказать, что уже с этой – второй – своей книги писатель обрел четко узнаваемый стиль, индивидуальный голос, а уж вы сами судите, насколько он хорош.
Но одно утверждать я берусь. При всей кажущейся мизантропии некоторых рассказов или эпизодов, в целом литературный театр Павла Алексеева – это (да простит мне покойный Булат Шалвович Окуджава!) надежды маленький театрик. Камерный. Для своей публики. И такой, куда хочется заглянуть снова, как несомненно сделает это.
Дмитрий Бестолков. «„Сатанинская вера“ В. В. Маяковского: поэт в оценке Юлия Халфина»
Современное маяковсковедение накопило большое количество различных оценок творчества поэта, которые не перестают звучать и за его академическими пределами. Яркий тому пример статья Юлия Халфина «Гордые человеки. Прощание с кумирами отшумевшей эпохи» [1]. Большинство рассуждений её автора сводятся к попытке доказать, что поэт в своих стихах выступил проповедником особой веры – «антиверы», «сатанинской веры» [1, с.9]. «В рассматриваемом нами аспекте, – подчёркивает Халфин, – исчезает даже разница между ранним, искренним, ярким поэтом и советским „горланом“, который хрипит, рычит, став „на горло собственной песне“. Разница лишь в одном – ранний Маяковский, изгнав с иконы Христа, вставляет туда лик своего лирического героя („гвоздями слов прибит к бумаге я“), а после революции он уступает это место всемогущему Богу – всевидящему Ильичу» [1, с.9]. Автор статьи убеждён: Маяковский и до, и после революции был поэтом-сатанистом, но если до 1917 года его «сатанизм» выражался в ниспровержении догматов православия и откровенном самообожествлении, то после Октябрьской революции «сатанизм» художника приобрёл иные черты: он обернулся верой в победу социализма и политический гений В.И.Ленина.
Ю. Халфин, выстраивая концепцию «Маяковский – поэт-сатанист», решает две задачи. Первая – сводится к поиску доказательств того, что в стихах поэта системно и большом количестве встречаются мысли, направленные на прямое опровержение библейских истин и христианских заповедей. Вторая – нацелена на обнаружение в произведениях художника «политических симпатий» к социализму, в котором Ю. Халфин усматривает дьявольское начало.
Решая первую задачу «исследования», Ю. Халфин пишет: «Перелистывая страницы собрания сочинений Маяковского, обнаруживаешь, что буквально нет, кажется, ни одной библейской или евангельской заповеди, против которой бы поэт не выдвинул обратного утверждения… Завету «Не убий» поэт противопоставит завет: «Убей!» … Завету «Прости» – призыв: «Иди, непростивший! Ты первый вхож в царствие моё…» [1, с.10]. Автор статьи даёт морально-этическую оценку стихам поэта. Такой подход приводит его к ошибочным, ложным выводам: «Маяковский в своей предоктябрьской лирике воспел всемогущего Антихриста, врага Бога, грозящего уничтожить и самого Творца, и сотворённый Им мир» [1, с.5]. И каким образом Халфин пришёл к заключению, что бунт Маяковского против Бога, хотя бы в самой яркой его дореволюционной поэме «Облако в штанах», во имя сатаны? Чтобы доказать абсурдность такого предположения внимательнее вчитаемся в знаменитые строки:
Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски [2]!
Судя по всему, в голосе лирического героя поэмы Халфин и «расслышал» вопли Антихриста. Он не заметил, что этот протест против Бога, это желание уничтожить всевышнего и раскроить сапожным ножом мир, вызвано особым несогласием с его устройством. От поэта ушла любимая женщина, ушла к другому, и вернуть её нет никакой человеческой возможности, значит такова воля Бога. Отсюда и недоумение героя: «отчего ты не выдумал, / чтоб было без мук / целовать, целовать, целовать»?! Отсюда его ненависть к творцу вселенной, его желание перелицевать, перекроить мир сапожным ножом по швам меридиан вплоть до самой Аляски. Этим жестом Маяковский разрывает тысячелетний диалог человечества с Богом. А понятие «антихрист», о чём Ю. Халфин забывает, существует только в системе признания существования всевышнего. Дьявольское и божественное – два полюса одного, единого религиозного сознания. Маяковский не «режет» это пространство, это сознание надвое, оставаясь на стороне сатаны, и стремясь уничтожить другую половину – Бога. Маяковский не мыслит категориями «дьявольского» и «божественного». Всякую истину, обретаемую в жизни, поэт взвешивает на весах с чашами удовольствия и отвращения, отделяя то, от чего ему хорошо, от того, с чем ему плохо. Художником не управляет религиозное сознание, оно лишь задаёт траектории для движения его мысли. Жизнь по православным канонам для писателя – лишь одна из моделей существования человека в мире, лишь один из способов понимания действительности. Бог у Маяковского осмысливается как ось низвергаемого мира. В центре вселенной – человек, и он враг Бога постольку, поскольку является врагом «старого» мира, в котором этот Бог был. Ю. Халфин этого не учитывает даже тогда, когда говорит о всесильном человеке в поэмах Маяковского и называет этого человека «враг Бога». Более того, он противоречит сам себе, когда пишет, что Маяковский, хоть и «крайне раздражённо», но «принимал христианское смирение» [1, с.6]. Христианского смирения у поэта попросту нет, ранний Маяковский весь в борьбе, в вечном бунте, в вечном противостоянии: «И только / боль моя / острей – / стою, / огнём обвит, / на несгорающем костре / немыслимой любви» (т.1, с.272). И даже, когда влюблённый сгорит от силы своего чувства, и на земле по нём, якобы погибшему, затянут: «Со святыми упокой», он, на самом деле бессмертный, устремится в небо – в своё неземное отечество: «Ширь,/ бездомного / снова / лоном твоим прими» (т.1, с.272)! Однако вопрос осложняется тем, что сам Ю. Халфин вовсе отказывает Маяковскому в каких-либо чувствах к родине. Поэту, по Халфину, «совершенно чужда блоковская Русь», «чужд есенинский «край любимый». «В его сердце, «выжжена южная жизнь». Его патриотический пафос в советские годы направлен не на живое небо и солнце, а на созданную рабочими руками, выкованную пролетарскую страну, «Красную… из революции горнила» [1, с.6]. Как мы полагаем, и здесь Ю. Халфин глубоко заблуждается. Чувство любви к родине, к России было крайне присуще Владимиру Маяковскому. Ни блоковская («кругом / тонула / Россия / Блока»), ни есенинская Русь ему не нужны, у него своя Россия, пусть и не понимающая его гения, но своя, родная:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: