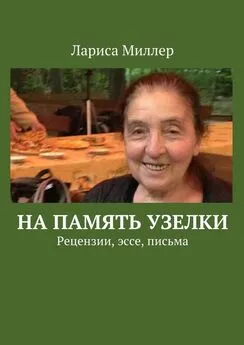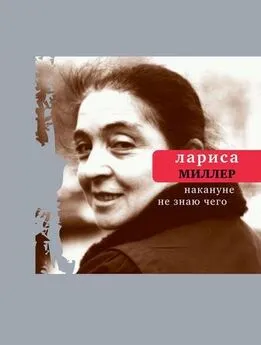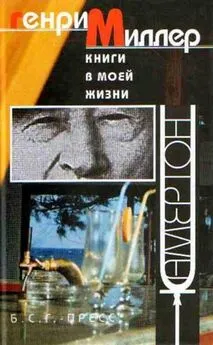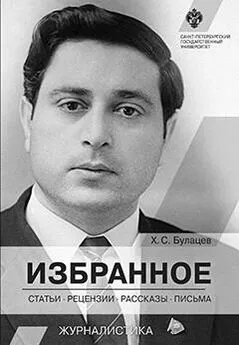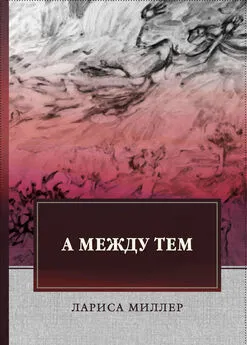Лариса Миллер - На память узелки. Рецензии, эссе, письма
- Название:На память узелки. Рецензии, эссе, письма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785447470562
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лариса Миллер - На память узелки. Рецензии, эссе, письма краткое содержание
На память узелки. Рецензии, эссе, письма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Одно утешает: он многое успел нам поведать, познав самые крутые виражи: войну, Гулаг, ссылку, смерть близкого человека. С нами остались «Записки гадкого утёнка», в которых он, как на духу, «во всём сознался»: и в слабостях своих, и в победах над ними. « Постоянным напряжением, постоянным вызовом была война. Я был счастлив по дороге на фронт, с плечами и боками, отбитыми снаряжением, и с одним сухарём в желудке, – потому что светило февральское солнце и сосны пахли смолой. Счастлив шагать поверх страха в бою. Счастлив в лагере, когда раскрывались белые ночи. И сейчас, в старости, я счастливее, чем в юности. Хотя хватает и болезней и бед. Я счастлив с пером в руках, счастлив, глядя на дерево, счастлив в любви ».
Редкое свойство Померанца – обращаться к каждому из нас, впускать в свою душу и быть абсолютно искренним. Ни позы, ни нравоучений. «Бойся того, кто скажет «Я знаю, как надо», – часто повторял Г.С. эти слова Галича. Он знал, как не надо . И это уже очень много. Не надо догм, не надо ненависти к инаким, не надо пены у рта, не надо терять надежду. Ведь всегда есть чем жить и всегда есть причина для счастья. Она есть и сегодня, потому что и сегодня, как в том давнем феврале, когда он шёл на фронт с одним сухарём в желудке, светит февральское солнце и сосны пахнут смолой. Григорий Померанц не учит радоваться. Он просто заражает вирусом радости. «Как можно видеть дерево и не быть счастливым?» Эти слова Достоевского часто звучали в доме Померанца и Миркиной.
Достоевский – спутник Померанца с 1938 года. Он думал и писал о нём всю жизнь. Он хорошо понимал и «смешного» человека и «подпольного». Да и как не понимать, если Померанц сам такой. Недаром же он назвал свою автобиографическую повесть «Записки гадкого утёнка». « Смешной человек потому и смешон, что в уме его теснятся целые вселенные, – пишет Померанц в одном из очерков, посвящённых Достоевскому, – смешным человеком чувствовал себя и Толстой (это видно в его повести „Юность“). Оба величайших русских писателя, очень чувствительные к красоте, с детства были задеты своей собственной грубой и невыразительной наружностью, часами простаивали перед зеркалом, пытаясь придать лицу по крайней мере умное выражение, а в гостиную не умели войти; склонность к созерцанию вызывала рассеянность и неловкость, а сознание своей неловкости и к тому же некрасивости сковывало по рукам и ногам и удесятеряло неловкость ». Кому незнакомы подобные переживания? Померанц пишет о писателях и их героях, как о близких и понятных людях. Ему внятны их рефлексии, фобии, их внутренняя борьба. Для него литература, культура – никакая не надстройка, а сама жизнь в её сгущённом виде, квинтэссенция жизни. Потому так тянет читать Померанца. О чём бы он ни писал, он всегда пишет о главном в тебе, в себе, в нас. О Достоевском, Толстом, Тютчеве, восточной философии, истории он пишет так же лично, как о своём собственном выстраданном опыте на фронте, в Гулаге, в любви. Именно поэтому нам так необходимо написанное им. А ещё потому что это строки свободного незашоренного человека, что всегда было и остаётся редкостью.
Как странно и нелепо, что человека, который дома и в литературе и в философии, и в истории, вдруг из этого дома выселяют. Как дико, что человек, которому было так интересно жить, больше ничего не будет знать об этом мире и о любимых людях. А может быть, будет? Но не стоит об этом. Лучше полистать те страницы жизни, которые навсегда останутся в памяти: Григорий Соломонович, прикрыв глаза, слушает стихи или музыку (любимое ежевечернее занятие Зины и Гриши); Г.С. спокойно, без суеты привычно помогает Зине накрывать на стол; раннее утро на даче в Отдыхе, Гриша, как обычно, отправляется на велосипеде в магазин за продуктами. И в этой роли он столь же естествен, как и за письменным столом. А ещё долгие годы у нас дома хранились рукописи Померанца. Ведь мы же десятки лет жили в догутенберговской России, и Г.С. старался держать свои неизданные труды в разных местах, чтоб они хоть где-нибудь сохранились.
В России и впрямь надо жить долго. Авось до чего-нибудь хорошего доживёшь. Григорий Померанц и Зинаида Миркина дожили. Их издали, их узнали и полюбили сотни и сотни людей. К ним тянулись, на их лекции, которые они регулярно читали, приезжали из отдалённых уголков страны. Г.С. успел почувствовать свою нужность.
А ещё они успели пожить в замечательной квартире, которую им помогали обустраивать любящие их люди. Впрочем, им и в хрущёвской пятиэтажке было неплохо. Они и в тесной квартирке с прекрасной слышимостью (из квартиры сверху доносился собачий лай, а из соседней плач ребёнка) умудрялись жить втроём с тишиной. Меня всегда поражало свойственное им обоим сочетание страстности и внутренней тишины. И эта тишина воспринималась, как живое существо, на которое можно даже наткнуться.
В их доме часто звучали стихи. Гриша любил строки Пастернака: «Ты вечности заложник у времени в плену». Но сам-то он умел жить и во времени и в вечности, и никогда ни у кого не был в плену. А 13-го марта ему исполнится 95лет. И свет будет, наверно, ещё более весенний, чем сегодня. Ещё один повод для счастья.
Кино и поэзия 6 6 «Киноведческие записки», №104/105, февраль 2013 г.
Я вздрогнула, когда прочитала у Бертолуччи 7 7 Бернардо Бертолуччи «Моё прекрасное наваждение: воспоминания, письма, беседы (1962—2010)» / Москва, «КоЛибри», «Азбука-Аттикус», 2012.
, что самый близкий к поэзии вид искусства – кино. Не помню дословно, но мысль передаю верно. Я сама всегда так считала и, полагаю, неслучайно, кончая школу, подумывала поступить во ВГИК на сценарный факультет. До стихов ещё было далеко. Я начала писать их только в 1962 году, кончив иняз. Прочтя у Бертолуччи то, о чём сама думала, решила объяснить, в первую очередь самой себе, что же роднит поэзию и кино. Наверное, прежде всего та стремительность, с которой стрела, пущенная и тем и другим видом искусства, достигает души. И это вовсе не значит, что стремительно развивается сюжет фильма. Разве «Смерть в Венеции» динамичен?
Но все стрелы, пущенные Висконти, достигают цели. А это и крупные планы Дирка Богарта и его незабываемая спотыкающаяся нервическая походка, и тот контраст, который возникает, когда камера, перейдя от Богарта к подростку, останавливается на его покойном гармоничном, соразмерном облике, и показанная с особой тщательностью роскошь отеля, и контрастирующая с ним запущенная и прекрасная Венеция. Фильм движется медленно, а стрелы летят стремительно.
И то же самое происходит, когда смотришь «Сказку сказок» Юрия Норштейна. Опять тот же неспешный темп и то же мгновенное воздействие. Вот так же и со стихами: «Какая грусть! Конец аллеи / Опять с утра исчез в пыли, / Опять серебряные змеи / Через сугробы поползли» (Фет). Впрочем, мне всегда казалось, что для мгновенного воздействия достаточно и первых четырёх слов: «Какая грусть! Конец аллеи…» Причём, душа откликается раньше, чем понимаешь смысл сказанного или увиденного. Во всяком случае, так у меня всегда было со стихами Мандельштама и с фильмами Андрея Тарковского. Особенно с самым из них любимым «Зеркало». Я даже не пыталась уловить смысл происходящего, не заморачивалась временем событий. Меня завораживала сама фактура и звуки: потрескивание горящего сарая во время пожара, отблески пламени, звук льющейся воды, когда героиня моет голову, её загадочная улыбка, её незабываемая поза, когда она курит, сидя на плетне, и смотрит вдаль, надеясь и не надеясь увидеть того, кто ей дорог.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: