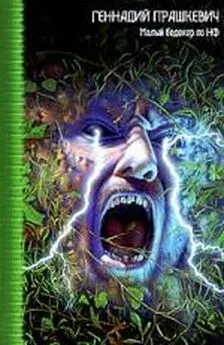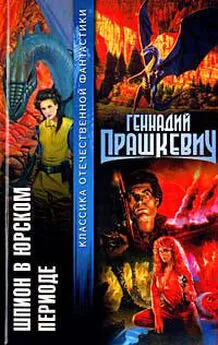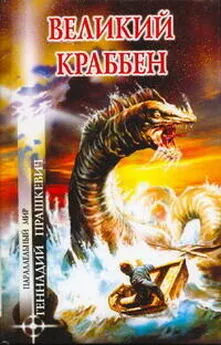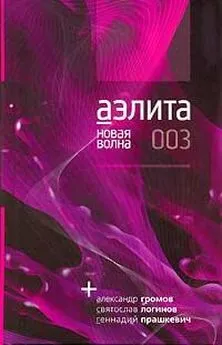Геннадий Прашкевич - Малый бедекер по НФ, или Книга о многих превосходных вещах
- Название:Малый бедекер по НФ, или Книга о многих превосходных вещах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, АСТ Москва, Транзиткнига
- Год:2006
- ISBN:5-17-035132-1, 5-9713-1502-1, 5-9578-3526-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Прашкевич - Малый бедекер по НФ, или Книга о многих превосходных вещах краткое содержание
В этот сборник вошли новые произведения Геннадия Прашкевича, относящиеся к совершенно разным направлениям фантастики. Ироничная, остросюжетная «Земля навылет», жесткая, сильная «Дыша духами и туманами», тонко-пародийный «Золотой миллиард» и ироничный, забавный «Малый бедекер по НФ»!
Малый бедекер по НФ, или Книга о многих превосходных вещах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
2
«Иней на пальмах» – нетающий лед. «Подземная непогода» – вулканы начинают работать на человека. «Рождение шестого океана» – беспроволочная передача энергии на расстояние. «Мы – из Солнечной системы» – создание новой науки ратомики. «Месторождение времени» – сомнения в совершенстве человека. «Темпоград» – искусственное ускорение времени. «Карта страны Фантазии» – один из немногих настоящих бедекеров по научной фантастике. Наконец, «Лоция будущих открытий» – совершенно необыкновенная книга о том, чего мы можем ждать от науки и чего ждать от нее нет смысла.
Таков писатель Георгий Гуревич.
«Мы привыкли к тому, что писатели вторгаются в круг научных проблем не иначе как при изложении биографий ученых или, в меньшей степени, характеризуя ученых как героев романа, – писал в предисловии к «Лоции будущих открытий» доктор философских наук В. А. Чудинов . – Иными словами, мы привыкли к отображению науки в искусстве через взгляды некоторого конкретного субъекта, пусть даже выдуманного писателем. Но имеет ли право литератор судить о глубоких тайнах мироздания от лица собственного авторского Я? Примеры такого подхода все еще крайне редки в мировой культуре. А между тем они обогащают наши представления не только в плане постановки тех или иных научных проблем, но и в плане чисто человеческой заинтересованности и эмоциональности – искусство не привыкло скрывать своих чувств. Или, говоря иначе, искусство не стесняется быть человечным. Самое интересное в лежащей перед нами книге – автор осмеливается строить гипотезы. Более того, он пытается построить некоторую систему природы, некоторую универсальную таблицу, охватывающую и природу, и общество, и человеческое мышление – он пытается своими средствами решить философскую проблему единства природы! »
« На рассуждения о науке, на споры со специалистами меня вынудила обстановка в фантастике эпохи «на грани возможного», – объяснял сам Георгий Иосифович в своем «Юбилейном отчете» (1987 ). – Тогда считалось, что научная фантастика должна быть в первую очередь и в основном – научной. Поэтому все наши произведения давались на рецензию специалисту, желательно со степенью. И избранный кандидат, оправдывая свою научную солидность, требовал для осторожности урезать фантастику, повышать спортивные рекорды не втрое, а на три секунды, не тучи перегонять, а планомерно организовывать снегозадержание, тополь выращивать не за три недели, а на метр в год, на полтора от силы. И не оставалось фантастики. И в результате я, ревностный защитник небывалого, вынужден был прилагать к повести пояснительную записку с цитатами, ссылками, формулами и расчетами, показывающими, почему именно я считаю возможным, несмотря на такие-то и такие-то формулы, соображения и возражения, все же допустить, предположить, что в дальнейшем, по мере развития научно-технической мысли и т. д. Со временем я привык писать эти пояснительные, даже заготовлял их заранее, приступая к новой вещи, потом стал публиковать в виде отдельных статей-гипотез. »
« …Когда обратился к фантастике? В детстве. Почему? Склад ума такой. Дети народ искренний. Их не заставишь залпом глотать скучное. Я был преданным подписчиком «Всемирного следопыта», Беляева читал с упоением порционно – «продолжение следует». Приятели мои увлекались Конан-Дойлом или Фенимором Купером, я предпочитал Жюля Верна. Первую научно-фантастическую повесть написал в восьмом классе. Называлась «Первый гритай». Родители моего героя умирали от зноя в жаркой пустыне, зной повлиял на их гены, и родился у них урод-уродом, большеголовый и лупоглазый. Но потом оказалось, что этот урод – талант, умница, и даже не человек, а представитель нового вида, следующего звена. И до чего он додумался? Решил уничтожить человечество, чтобы освободить землю для себе подобных – гритаев. Пришлось автору его убить. Повесть, конечно, не была напечатана. А теперь вообще думаю, что злость и хитрость – оружие бездарных и слабых, а могучий разум должен быть добрым. Он и себя обеспечит и другим поможет .»
« …В ноябре 1945 демобилизовался, решил стать писателем, – (письмо от 26. VII. 1988). – Первые месяцы после войны у людей были наивные надежды на вольности в печати. Начиналась мирная жизнь. Открывались журналы. Фантастику даже просили. Думаю, сыграла роль атомная бомба. Реальностью оказались фантазии, а фантастики не было. Мой приятель и соавтор (Г. Ясный) организовал свидание с редактором «Огонька» Сурковым. Сурков выслушал в пол-уха, сказал: «Ну, давайте!» – и забыл. Но уже в феврале повесть «Человек-ракета» была готова. В апреле ее приняли в Детгиз, в июле она прошла по радио, в ноябре-декабре была напечатана в «Знание – сила», в июле следующего года вышла отдельной книжкой, в августе, кажется, была одобрительная рецензия Л. Гумилевского в «Литгазете», а в уже декабре – разгромная, в «Культуре и жизни» – «Халтура под маркой фантастики». Дело в том, что повеяли холодные ветры. Дошла очередь и до фантастики .»
Холодные ветры – это постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“, отмененное только через сорок три года. « Советские писатели и все наши идеологические работники поставлены сейчас на передовую линию огня, – заявил тогда главный идеолог страны А.А. Жданов . – В условиях мирного развития не снимаются, а наоборот вырастают задачи идеологического фронта и в первую голову литературы .»
«…В обойму тогда входили Казанцев, Немцов и Охотников, – (письмо от 26. VII. 1988). – Самым процветающим был Немцов. Самым характерным – Вадим Охотников. Профессиональный изобретатель, он и писал о том, как интересно изобретать. Его «Пути-дороги» – о том, как строили дороги, плавя грунт. Построили и прекрасно! А главный сборник Охотникова – «На грани возможного». Охотников сам полный был такой, больной сердцем, на машине ездил за город, чтобы писать на свежем воздухе. Помню, как рассказывал чистосердечно: «Вызвали нас в Союз Писателей, говорят: „У вас в группкоме 350 человек, неужели нет ни одного космополита?“ Ну, мы подумали, что человек вы молодой, инфаркта не будет, к тому же в газетах вас обругали…» Потом он уехал из Москвы в Старый Крым, там и похоронен неподалеку от могилы Грина .»
« …Литературная весна не состоялась, – (письмо от 26. VII. 1988) . – В фантастике это выразилось в теории ближнего прицела. Идейная подоплека ее: есть мудрый вождь, который видит дальше всех. Он указал дорогу к Коммунизму. Есть Госплан, серьезное учреждение, все распланировано на пятилетку. При чем же тут кустари-писатели? А они должны воспевать эти стройки, должны воспевать планы советских ученых. Ну, а критики доказывали, что наша задача – улучшать жизнь на Земле, а американцы отвлекают нас от практических задач, маня каким-то космосом. Помню, на одном обсуждении в ЦДЛ взял слово читатель – майор – и сказал: «Я не понимаю. У нас в войсках есть артиллерия ближнего боя, есть и дальнобойная. И в литературе должно быть так.» Критики снисходительно улыбались .»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: