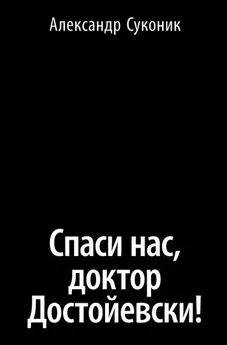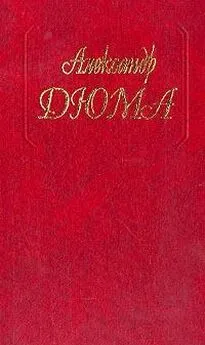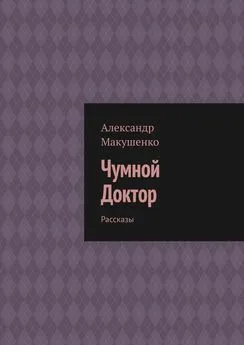Александр Суконик - Спаси нас, доктор Достойевски!
- Название:Спаси нас, доктор Достойевски!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0373-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Суконик - Спаси нас, доктор Достойевски! краткое содержание
Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.
Спаси нас, доктор Достойевски! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но если человек только добр, то он еще и немного дурак, и потому с ним можно не считаться, по крайней мере, не слишком считаться. И Диккенс знал, что в реальной жизни Джо дурак. Так что, когда я погружался в ту самую паузу, то знал, что я ненамного лучше матери, что мы тут все в одной компании – а дядя Боря в другой стороне от нас. И, чтобы закончить о нем, еще одна мысль. Я перерос мать, я перерос школьных и институтских друзей, я перерос бы дядю Мишу (точно знаю это), но не думаю, что перерос бы дядю Борю. Чтобы перерасти (минуть в транзиции), нужно за что-то зацепиться и от чего-то оттолкнуться, и что-то должно зацепить тебя и попытаться помешать движению. Как бы я мог перерасти дядю Борю, если бы он этому не противился? А как он мог противиться, если был слишком дурачок для этого, если для него все было бы хорошо во мне, лишь бы я был жив-здоров? Если в нем не было ни на йоту транзитности, как бы он мог критически оценить мою? Вот как выходит, что где-то на небесах сидит Господь Бог, которому некуда двигаться, а здесь, на земле, сидят дурачки в том же, по сути дела, качестве…
…И был еще один человек, которого я не пог перерасти, потому что мы с ним слишком сразу разошлись, вцепившись друг в друга: мой отец. Как можно перерасти неистовость, которая тоже константна, потому что постоянно поддерживает саму себя на своем уровне неистовости?..
…Я уже по крайней мере два раза упомянул дедушку, мы жили с ним в одной комнате до и после войны. Когда я теперь захожу в ливанский продуктовый магазин, что на Атлантик авеню в Бруклине, то вижу вокруг себя много пожилых господ в аккуратных костюмчиках, при галстуках, их усы (или усики) безупречно подстрижены, и вот эти господа ужасно напоминают мне дедушку. Еще давным-давно, когда я читал, как Паниковский в «Золотом теленке» говорит о Фунте, что тот «приличный человек», которых мало есть, а скоро совсем не останется, то у меня всегда было впечатление, что он говорит о моем дедушке – но только теперь понимаю, насколько был прав, то есть насколько Ильф и Петров имели в виду тот самый тип старичка при манишке и усах, который сохранился в наши дни только на Востоке. Но это не значило, что образ Фунта, пропущенный через образ моего дедушки (равно, как и образ дедушки, пропущенный через образ Фунта) умилял меня: увы, мое отношение к дедушке отнюдь не было окрашено в розовые тона, и тут сыграли свою роль не столько наши личные взаимоотношения, сколько отношение к нему взрослых. Оборачиваясь назад, я с недоумением и сожалением признаюсь, что у меня нет мнения по поводу малоприятных фактов, которые собираюсь расказать. Например, я помню, как мать раздраженно бормочет «гнусный старик», и даже помню (то есть знаю), что потому она так раздражилась, что дедушка поставил на обеденный стол ночой горшок и рассматривает свою мочу (он болеет почками). Но это все, у меня нет эмоционального отошения к происходящему. Я настолько отделен от прошлого, что не могу связать воедино этот и другие факты – например, что справедливый дядя Миша тоже терпеть не мог старика, но за что, за что? Все старые люди обладают странностями, что уж здесь такого ужасного с горшком, чтобы мать впадала в такую ярость, жаловалась отцу, зная, что тот не гнушается рукоприкладством, что он дерется со стариком (а при неравенстве сил это означало, что он бьет старика)? Честно говоря, я более не могу ощущить тот эмоциональный и психологический уровень нашего существования, – если бы мог, то сумел бы дать цельную картину, художественно объясняя, – но не могу. Я не сомневаюсь, что дядя Миша осуждал отца за его обращение со стариком, но он не вмешивался, потому что сам не любил дедушку, и теперь, по моей отдаленности от тех времен, это кажется мне негожим потворствованием отцу. Я знаю, что рассуждаю абстрактно, и еще знаю свою тогдашнюю вину: по следам отца я тоже бил старика. То есть не то чтобы бил, но мог стукнуть его, когда он меня «доводил до того» (замечательная формулировка!). И даже если не «бил», а только стукнул один раз, – именно этот один у меня на памяти, – какая разница? Но думаю, что не один раз, коль скоро это было в воздухе, а мальчишки сволочной народ, им только дай волю.
Но опять же, я хочу более всего подчеркнуть мое теперешнее обессиливающее и разочаровывающее недоумение. Я гляжу со стороны на яркую картинку из прошлого, все детали при мне: дедушка стоит спиной к окну, я напротив него, Димка Вайсфельд чуть позади меня по правую руку, и я, придя за что-то на деда в ярость, бью его ногой, целясь в мошонку Тут же он, скрючившись, начинает выть: ой, моя яишница, моя яишница (он не слишком в ладах с русским языком), и я передразниваю его, хотя не совсем искренне, потому что, схватившись за мошонку обеими руками и явно преувеличивая свою боль, он грозит рассказать отцу, когда тот придет с работы. Как я знаю, что он преувеличивает боль? A-а, вот это единственное аутентичное воспоминание на уровне чувств: все презирают деда, все раздражаются на деда, потому что он «явно преувеличивает», то есть изображает, прибедняется, крутит и юлит. Тут же я помню, как Димка говорит: ну, пошли же, и мы уходим – дед пытался и так и эдак, крутя, юля и, конечно же, преувеличивая свои жалкие угрозы, не пустить меня, оттого и получил по яйцам, но вот Димка тоже не находит ничего сверхъестественного в том, что я дал деду по яйцам, хотя, думаю, он не одобряет меня. Но если я передразниваю деда с нелегким чувством, то это не только из страха перед отцом, все мои чувства того момента до сих пор со мной, на той же ясной и яркой тарелочке, что и картинка. Переступаешь границу, кружится голова, замирает сердце (страх, вина и наслаждение), и потом это всегда с тобой, не исправишь… Не-ет, друг мой, даже тогда ты не был Зигфрид, со-овсем не Зигфрид, хотя твой дед, может быть, и был Миме. Чего же ты, друг мой, на старости своих лет ноешь и причитаешь, чего ты теперь , когда звериные страсти покинули тебя, «не можешь простить себе»…
…За исключением этого эпизода я не помню ничего значительного из наших с дедом отношений после войны, а вот из «довойны», когда был ребенком, помню. Два эпизода, две картинки. Первая: дед лежит на своей высокой-высокой кровати (видимо, я еще очень мал), и рядом с кроватью на тумбочке стопка больших книг со странными (то есть еврейскими) буквами. И вот я снизу вверх вопрошаю деда, что это за книги, а он мне сверху вниз надменно отвечает, что эти книги не для меня, я в них ничего не пойму. Странно: я еще не знаю тогда, что дед пережиток прошлого, но его ответ подготавливает и подталкивает меня к этому знанию. То же самое подталкивает деда ответить таким наглухо отрезающим образом: он знает, что он пережиток того прошлого, от которого мало людей осталось, а скоро и вообще не будет, и, презирая настоящее, не может удержаться, чтобы не отыграть свои оскорбленные чувства хоть бы на маленьком внуке. Собственном маленьком внуке, который, нет сомнения, будет человеком нового времени – вот какая у нас ситуация: хоть и закончились революция и гражданская война, испепеляющее души человеческие напряжение осталось, и оно не так скоро кончится, оно передастся мне в своем полном виде…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: