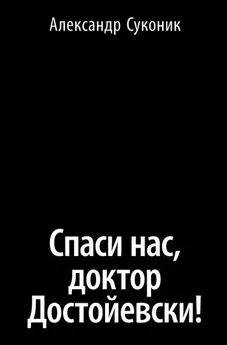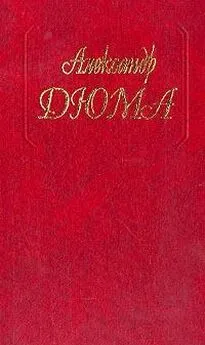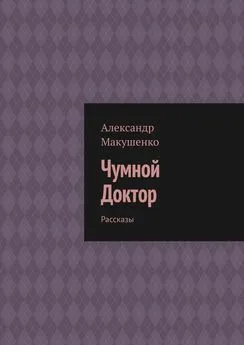Александр Суконик - Спаси нас, доктор Достойевски!
- Название:Спаси нас, доктор Достойевски!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0373-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Суконик - Спаси нас, доктор Достойевски! краткое содержание
Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.
Спаси нас, доктор Достойевски! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ворвавшись в школу вместе со звонком, я успеваю добежать до классной двери, но строгая Екатерина Ивановна, учительница географии, закрыла дверь перед моим носом, и я остался в пустынном коридоре переживать свою судьбу. У окна стоит долговязый малый из шестого класса (я в пятом), которого директор школы Влас не допустил к занятиям по причине неуспеваемости. Я смутно знаю его в лицо и говорю другу по несчастью о своей неприятности.
– Подумаешь, – пожимает он плечами. – Чтобы я стал тратить свое здоровье на такие вещи!
Между нами не происходит диалога. Он говорит, еще раз пожимая плечами: «Мне мое здоровье дороже», и уходит по коридору, а я, недоумевая, смотрю ему вслед. Внезапно мне открывается целая жизненная философия, о которой я и не подозревал. В моей жизни и в жизни вокруг меня всё наполнено разнообразного рода напряжением, всевозможными высокими моральными императивами и комплексами, всякими взятыми обязательствами (даже если я уже начинаю понимать их пропагандную фальшь), всякими страхами, а тут вдруг человек как-то уж больно убедительно декларирует настолько иную точку зрения на жизнь (ведь он на грани исключения из школы!), что кажется мне просто существом с другой планеты. Но я запоминаю его, он западает мне в душу, в печенку и селезенку, я задумываюсь, склоняя голову, над фактом существования чего-то для меня непостижимого. Думаю, что эта встреча действует на меня примерно таким же образом, как на молодого принца Будду подействовал вид в первый раз увиденных им нищих. Только я не принц, у меня нет дворца, куда я мог бы бежать, чтобы все обдумать на воле, и потому моя реакция не столь отчетлива. Разумеется, как советское дитя я по психологии ближе к нищим, чем к принцу, и материальное благополучие моих родителей не имеет отношения к тому, что я понимаю под дворцом (местом, где тебя учат озирать мир с вершины твоего положения). Да и вообще я по натуре глуп, а, если не глуп, то крайне узок и инертен в своем мышлении, и именно потому долговязый малый производит на меня такое впечатление – кто бы, кроме дурачка, мог впечатлиться такой общерасхожей философией? Но инертная по природе глупость сосуществует во мне с извращенной способностью не отвергать непостижимое по первому эмоциональному порыву, а задумываться над ним, склоняя голову, и именно это качество делает из меня транзитного человека, к которому всякий «порядочный человек» («честный человек») должен испытывать недоверие и, в конечном счете, неприязнь. В равной степени порядочный и честный человек, который предан моральным императивам, и порядочный и честный человек, который предан исключительно заботе о своем здоровье…
…Еще история с долговязым напоминает мне мои отношения с писаниями Фридриха Ницше. Благодаря той самой инертности мышления, сочетаемой с изолированностью и музейностью советской культуры, из меня вышло крайне изнеженное существо, для которого малейшее прикосновение к психологии иной нации или страны превращалось в мучительное испытание. Хоть у меня и записано в пятой графе, что я «еврей», хоть я и вырос в провинциальной еврейской среде, на самом деле я идеальный «русский», как это слово понималось до революции идеологами-националистами. Не так давно, во время югославских событий, я услышал по радио, как какой-то серб, бежавший от хорватов из Краины в Белград, жаловался, что в Сербии люди, как звери, и какой рай была его Краина – и с торжествующим и мстительным оскалом на лице я понял этого серба, он был, как я когдатошний! И мое торжество было: ага, получай по заслугам, человек двадцатого века, не узнавший и не пожелавший транзиции! И в тоже самое время я понимал, как много меня связывало по душе с этим сербом… но я не хотел души – еще рано, рано, еще транзиция не окончена, еще есть путь, и только когда-нибудь, в самом его конце…
То же самое у меня было с Ницше – пока я жил в России, я не мог его читать, он был мне отвратителен и непонятен. Что же произошло с тех пор? А вот что: я эмигрировал в Америку. Думаю, что в Европе мне было бы не так тягостно, и я не смог бы пройти такой путь испытания и изменения. (Помню, как даже лет через шесть-семь мы возвращались с женой из первого путешествия в Европу, и я хотел, чтобы самолет упал в океан, лишь бы мне не видеть снова Нью-Йорка.) С Европой меня могли бы примирить история и всякие исторические эстетические красоты, да и отношение к культуре тоже, но в Америке мне явилась преувеличенно обнаженная и ничем не смягченная или оправданная (кроме способности к материальным завоеваниям) суть западного индивидуализма, и это прибило меня. Ощущение у меня было, будто жизнь здесь – волк раздирает волка и волк ест волка. Впечатление шло, разумеется, не столько от конкретного общения с людьми, сколько от телевизора и, в особенности, от газет, по которым я учил язык. Столкновение внутри меня было отнюдь не столкновение одной реальности с другой реальностью (на такую зрелость я еще совсем не был способен), но иллюзорного мира русской литературы девятнадцатого века, пропущенного сквозь призму советского существования, с одной стороны, и иллюзорного газетного мира Америки двадцатого века, с другой – разумеется, ситуация, заслуживающая не более как саркастического смешка. Пресса преувеличивает и драматизирует жизнь не меньше, чем литература. И, хотя ее цели куда менее вдохновенны и бескорыстны, у нее есть одно преимущество: она ловче подделывается под жизнь. Одно то, что серьезная рецензия на театральное представление в «Дейли Ньюс» соседствовала на одной и той же странице с вульгарной рекламой полуголых девиц, обрывало мое сердце в отвращение и безнадежность больше, чем сообщение о пожарах или гибели многих людей. Что мне, человеку страны лагерей и жесткой идеологии, были конкретные человеческие жизни по сравнению с идейной стороной жизни? Да, пожалуй, и по сегодняшний день: что они мне в том же сравнении? Уважаемые господа присяжные заседатели, прилюдно признаюсь: в этом я так и не сумел измениться; даже если я настолько извратился, что стал понимать и любить Ницше, как старшего брата, мой внутренний спор с тем долговязым шестиклассником я так и не смог выиграть, не смог влезть в его шкуру, признать, что жизнь коротка, конкретна и материальна; если бы смог, то тогда совсем уже победил бы весь мир и стал бы как бог. Я записываю эти строчки в то время, когда в России, по крайней мере на какое-то время, начисто победила психология моего долговязого сошкольника, и все, кому она не впрок, оказались у разбитого корыта…
…Напротив дома Попудовой (или по-новому: Площадь Советской армии, дом № 1) – дома, в котором я вырос и куда вернулся после войны, – на широкой развилке таких замечательно широких одесских улиц (постоянно вижу их во сне) был разбит палисадник, окруженный чугунным заборчиком. Внутри палисадника стояла гипсовая реплика греческой скульптуры Лаокоона с детьми в смертельных объятиях огромного змея. Меня так часто водили гулять мимо нее, что запомнил на всю жизнь малейшую деталь в ней, но не помню впечатления. Совершенно ясно, что в какой-то момент Юлия Августовна, или кто другой (хотя в семье не было никого такого «другого»), рассказала мне, в чем тут дело, но это не осталось в памяти. Могу себе представить, что сперва эта скульптура производила должный эффект на воображение ребенка, но ее застылость… Погодите, я внезапно припомнил, что, ведомый на прогулку и взглядывающий мимолетно, я не понимал, что там происходит, потому что не умел различить змея! Да, да, именно! Конечно, скульптура сильно посерела от времени, а все углубления в ней были просто-напросто забиты грязью, так что можно сказать, она потеряла изначальную форму, но дело было не только в этом. Древнегреческие балетные изгибы тел были слишком «благородны», слишком искусственны, слишком пластичны, чтобы вызвать у меня живые чувства: видимо, я уже был потенциально готов к пикассовской «Гернике». (То же самое и сегодня: греческая скульптура не несет в себе ничего «реального», за что я мог бы зацепиться эмоционально.) Но в нашем, одесском, Лаокооне была одна специфическая и сугубо конкретная (реальная) деталь, которая действительно застревала в моей голове знаком вопроса. Дело в том, что (как я понял позже) мальчишки регулярно и зловредно каждой осенью или зимой отбивали у Лаокоона его член, и каждой весной, когда сходили вешние воды, расцветали акации и мужчины облачались в кремовые брюки и парусиновые туфли, город приделывал Лаокоону сие, каждый раз новенькое и сверкающее белизной, мужское орудие производства. Не знаю, может быть, тут проявлялся знаменитый юмор нашего города, может быть (куда скорей), срабатывала бюрократическая обезличка, а только этот самый новый член, можно сказать, вопиял своим неприличным контрастом с потемневшим от времени телом бородатого апполонова жреца. Все это происходило в течение многих-многих лет, до и после войны, и может быть, и сегодня происходит, не знаю. Мой друг художник Люсик Межберг, творец одесских мифов, уверял, что у скульптора такого-то (не помню фамилии) был с городом пожизненный договор на ежегодное восстановление лаокоонова члена, и что Люсик сам видел в мастерской скульптора ящик, впрок заполненный соответствующими гипсовыми заготовками. (Это был тот самый скульптор, которому было доверено государством лепить памятники и бюсты Ленина, и ленинских голов у него в мастерской, по утверждению Люсика, не меньше, чем лаокооновых членов)…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: