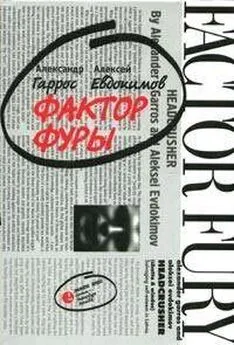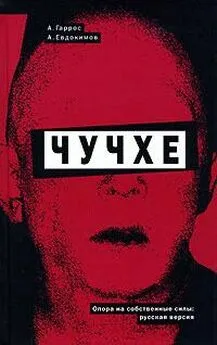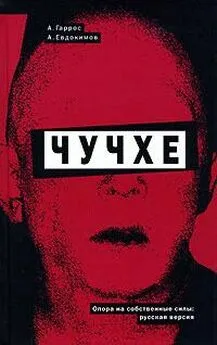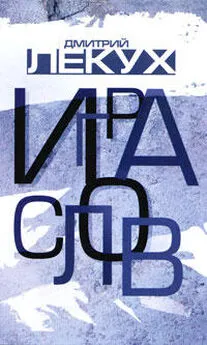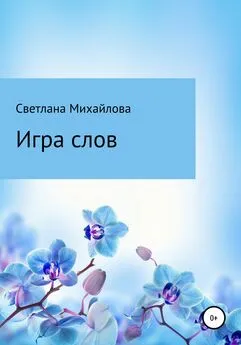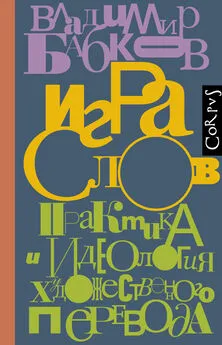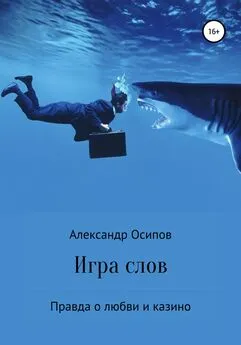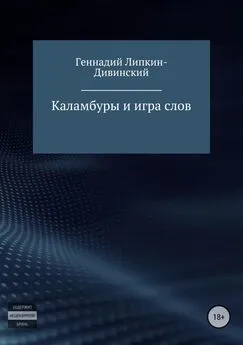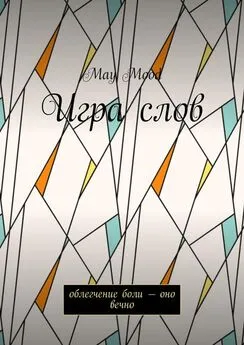Александр Гаррос - Непереводимая игра слов
- Название:Непереводимая игра слов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-099015-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Гаррос - Непереводимая игра слов краткое содержание
«Непереводимая игра слов» – это увлекательное путешествие: потаённая Россия в деревне на Керженце у Захара Прилепина – и Россия Михаила Шишкина, увиденная из Швейцарии; медленно текущее, словно вечность, время Алексея Германа – и взрывающееся событиями время Сергея Бодрова-старшего; Франция-как-дом Максима Кантора – и Франция как остановка в вечном странствии по миру Олега Радзинского; музыка Гидона Кремера и Теодора Курентзиса, волшебство клоуна Славы Полунина, осмысление успеха Александра Роднянского и Веры Полозковой…
Непереводимая игра слов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это риторический вопрос.
– И потом, – говорит Герман, – у меня же много артистов умерло.
Лицо его становится задумчивым. А я вспоминаю, что в процессе съемок «Истории арканарской резни» умер еще и замечательный оператор Владимир Ильин. И заканчивал фильм другой замечательный оператор, Юрий Клименко.
– На «Хрусталёве», – сообщает Герман, – тоже много артистов умерло, но там вот какая штука: там же пятьдесят третий год, репрессии, мрак – и я приглашал артистов с печатью смерти на лице. Я это чувствовал. Всегда это чувствовал.
Он даже кивает сам себе.
– Допустим, – говорит он, – у меня когда-то, когда запускали «Мой друг Иван Лапшин», пробовался на Лапшина прекрасный артист Губенко, прекрасный артист Юра Кузнецов… и Андрей Болтнев, наименее мощный из них. Но у него было лицо… лицо животного, занесенного в Красную книгу. И было понятно, что играть нужно ему, что такой герой – не доживет, не выживет. Не выпутается в тридцать седьмом году… И когда я время спустя стоял с повязочкой на рукаве у гроба Болтнева на прощании в театре – я думал: как я точно увидел эту неприспособленность к жизни…
Я молчу. Я понимаю, что он уже не отвечает на мой вопрос. Он отвечает не мне, и ответ его звучит почти неприлично – потому что регламентом у гроба коллеги и товарища предписано думать о милосердной вечности, о невосполнимой утрате… – уж никак не о точности собственного режиссерского глаза. Впрочем, отношения искусства со смертью регулирует другой регламент; он не то чтобы превыше похоронного – просто он с ним не пересекается.
– И тут, на картине, – продолжает Герман, – у меня тоже поумирало много людей, потрясающих артистов. И теперь им ведь тоже надо подобрать голоса – чтобы не разрывался голос с человеком. Мои ученики всё это делали, пока я в больнице был. Где-то хорошо делали, а где-то неважно. Так что сейчас мне придется что-то оставлять, а что-то переделывать заново. Они очень талантливые люди, мои ученики, да. Но они – не я. Есть замечательная английская поговорка: привидение не увидишь вдвоем. У каждого – свое привидение.
У каждого свое привидение, и привидение Германа – чрезвычайно авторитарная, видимо, персона. Любящая сразу показать, по чьим тут играют правилам.
Еще когда я под нудным нанодождем ищу в Репине нужную дачу и не нахожу ее, и Светлана Кармалита, жена, соратник и бессменный сценарный соавтор Германа, маленькая, остроумная женщина с большим черным зонтом, выходит меня встречать на Приморское шоссе, и во дворе я опасливо знакомлюсь с доброжелательным собачьим тандемом из Пупика (здоровенный молодой восточноевропейский овчар) и Медведева (седенький космополит неясного роду-племени; нет-нет, так его звали задолго до появления у России нового президента!), – еще в какой-то из этих моментов у меня останавливаются часы. Приходится принимать подачу – услужливо подсунутую недорогую метафору, прозрачный намек. Хочешь увидеть привидение Германа – изволь смотреть на него долго и не отвлекаясь. Изволь плюнуть на прочие планы и дела. Изволь остановить стрелки.
Штука в том, что в меню окружающего мира, тем более мира современного кино, нет такой опции. Его стрелки не останавливаются никогда. В силу неустранимого этого противоречия германовский «долгострой» – всегда еще и драма, почти трагедия. Даже если суеверно вынести за скобки все фатальные исходы.
Но сначала-то казалось, что на Самом Последнем Фильме Герман сам толкнул стрелки пальцем, и они завертелись, и очень даже бодро – по германовским-то меркам прямо блицкриг.
1999
Герман и Кармалита быстро написали сценарий, названный тогда «Что сказал табачник». Быстро нашлись деньги. Быстро выбрали артиста на главную роль Антона-Руматы, земного ученого-разведчика на отсталой планете, в королевстве Арканар: Александр Лыков, «Казанова» из сериала «Улицы разбитых фонарей», помните такого? Быстро сменили артиста, когда громовержец Герман выяснил, что Лыков успел заключить несколько телевизионных контрактов. Руматой стал Леонид Ярмольник. Герман на голубом глазу говорил, что понятия не имел, какой там Ярмольник известный артист, – а просто вот увидел этого парня по TV, он там какие-то призы раздавал, ну и подумал: вон какой у него нос хороший, и лицо такое, средневековое, и вообще обаятельный… чем не Румата? К тому же, говорил Герман, Ярмольник и впрямь лучше всех сыграл пробу, неожиданно хорошо: глазами сыграл, а не телом. Ярмольник, снимавшийся в десятках фильмов, в том числе очень недурных, народная звезда, телеведущий, шоумен и бизнесмен, терпел безропотно. Он-то хорошо понимал, что главная роль у Германа – это входной билет в зал славы, в ВИП-зону истории кинематографа; он готов был платить за этот билет дорого, очень дорого.
Он только не понимал, насколько дорого на самом деле.
Потому что потом начались съемки – в Питере, под Питером, в чешском замке Точник. И стрелки остановились.
В Точнике грузовики возили тонны и тонны грязи, сваливали под крепостные стены, грязь размывала вода из поливальных установок, превращая в маркую мерзкую жижу: в Арканаре всегда дождь и грязно. Над съемочной площадкой летали молнии и гремел германовский виртуозный мат. О том, как примерно шли съемки, хорошо рассказывал Петр Вайль, ныне покойный замечательный эссеист, друживший с Германом довольно коротко: вот обсуждают снятый накануне эпизод на десять секунд экранного времени, говорят полтора часа, решают, что вон тот мальчишка руки пусть складывает, как складывал, но поднимает сантиметров на пять выше, и отправляются переснимать. Или еще: как-то Вайль, две недели назад приезжавший на съемки, набирает номер Ярмольника; на вопрос «как дела?» тот отвечает не без иронии – так же, там же, снимаем тот же фильм. Трубку отбирает Герман, иезуитски уточняет: «И ту же сцену!».
Ярмольник держался почти четыре года, ссорился, мирился, отстаивал свое или подчинялся мастеру – и всё это время, кстати, работал бесплатно. Потом сломался и хлопнул дверью. Хлопок вышел громкий: Ярмольник интервью не давал, но в частных разговорах на все расспросы о Германе натурально хватался за голову, Герман давал интервью и метал молнии на большую дистанцию, нашел вместо Ярмольника двойника-дублера, но всерьез подумывал переснять картину так, чтобы всё было – глазами героя, а героя-то и не видно, вот, получите.
Потом всё вроде как-то наладилось.
– Как у вас сейчас-то отношения с Ярмольником? – спрашиваю.
– С Леней? Прекрасные отношения! – откликается Герман бодро. – Мы сейчас дружим. Правда дружим, по-настоящему.
Съемки длились семь лет. Собственно съемки: доработка, монтаж, озвучание – всё было еще впереди.
Всё продолжается до сих пор.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
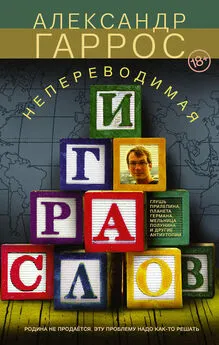
![Александр Гаррос - [Голово]ломка](/books/18371/aleksandr-garros-golovo-lomka.webp)