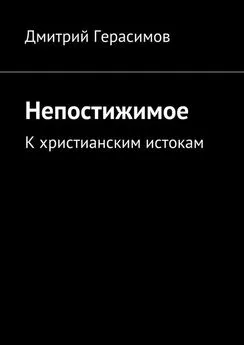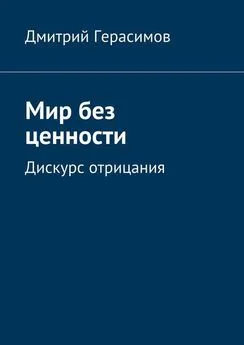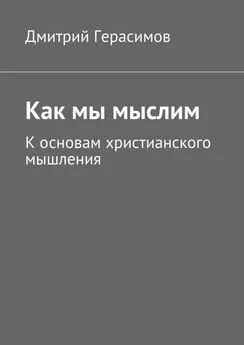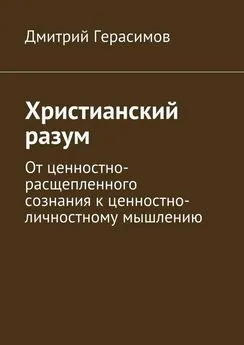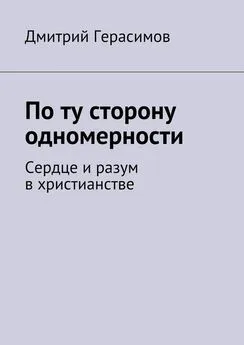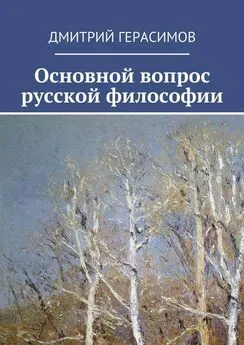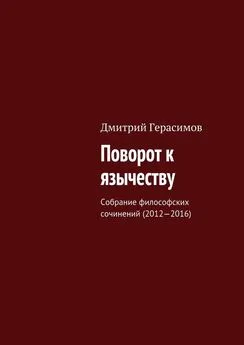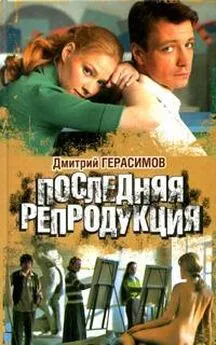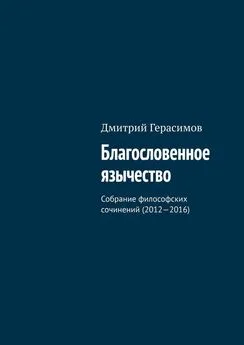Дмитрий Герасимов - Непостижимое. К христианским истокам
- Название:Непостижимое. К христианским истокам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448317248
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Герасимов - Непостижимое. К христианским истокам краткое содержание
Непостижимое. К христианским истокам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Лишь сознавая свою ограниченность миром (которую он сам же порождает в необходимости), разум способен дать простор нравственному чувству, и только действительность (или непосредственность) нравственного чувства открывает перед ним его собственные границы, в которых осуществляется познание 5 5 Эта идея впервые прослеживается у Сократа в его методе, построенном вокруг тезиса «я знаю, что ничего не знаю», затем только у И. Канта, хотя и в рационалистически искаженном виде.
, тем самым делая возможной рациональную деятельность как таковую (включая мышление в понятиях, познание всеобщих закономерностей) – рациональность состоит не в том, чтобы отрицать (или исключать) непознаваемое, а в том, чтобы, обнаруживая его и зная о нем, осуществлять познание в границах мышления (сохраняя логику последнего). На этом противоречивом соотношении живой (непостижимой) нравственности, ограничивающей бытие в деятельности мышления, и универсальной (относимой ко всему) рациональности, порождаемой нравственным чувством духовной несводимости к бытию, построено зыбкое равновесие человеческого присутствия в мире, образующее духовную субстанцию как личной, так и общественной жизни, являясь ее внутренним стержнем и одновременно – движущей силой.
Во всяком случае именно такое понимание соотношения разума и непостижимого (нравственно духовного) очень характерно для русской философской традиции, тесно связанной с христианством, и в частности, для такого видного ее представителя, как П. И. Новгородцев, чьи работы по философии права свидетельствуют, с одной стороны, о понимании коренного различия нравственной деятельности и отвлеченного законотворчества, а с другой – о стремлении найти реальную форму их практического взаимодействия в общественной жизни. Не случайно П. И. Новгородцев полагал, что «правовое государство», с нравственной точки зрения, есть лучшая форма государства 6 6 Мысль, которой П. И. Новгородцев остается верен на протяжении всей своей духовной эволюции. См., к примеру, Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991. С. 544—545.
, и что, однако, она как таковая может быть осуществлена лишь при поднятии нравственного и религиозного уровня народа 7 7 Там же. С. 548—549.
на том именно основании, что демократия в этом смысле ничем не отличается от других форм государства 8 8 Там же. С. 557.
. Иначе говоря, нет отвлеченного права без живой нравственности, как нет морали без права, и нет разума без непостижимого, как нет сердца без разума.
Исторически, вопреки утвердившемуся в Новое время справедливому представлению о прямой зависимости нравственного прогресса человечества от развития форм государственной жизни, именно Новое время (с XV в. – начала формирования рыночных отношений) являет собой удивительную метаморфозу, совершившуюся в нравственно-правовом сознании человечества, когда появляется сам термин «правовое сознание» со своим особым, специфическим смыслом, и который в действительности означает не вытекающее из права торжество нравственности (со спонтанностью ее чувственно-жизненных проявлений, не сводимых к бытию-в-мире как необходимости), а, напротив, ее полное и окончательное замещение рационально незыблемым законом и правом в качестве последней онтологической реальности человеческого. В новой духовной ситуации перевернутого (обращенного на себя) мышления закон – теоретически и практически – становится не просто чертой, за которую разум не в состоянии переступить, не разрушив себя, но и последней реальностью, в принципе не допускающей непознаваемого, что уже в XX веке очень хорошо выразил Л. Витгенштейн в известном афоризме «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» 9 9 Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М.: Гнозис, 1994. С.73.
. В итоге, сведенное к бытию-в-мире человеческое бытие оказалось ограниченным правом вне всякого отношения к морали и нравственности.
При этом, закон как единственное начало человеческой жизни, как правило, продуцировался и утверждался по преимуществу той частью общества, которая собственной жизнью воспроизводила состояние постоянного конфликта с законом (когда «человек человеку волк», по словам Т. Гоббса), ибо сила и власть формального принципа законности тем более значимы и велики, чем более презираемо конкретное («человеческое, слишком человеческое») содержание законов. В отсутствие внерациональных , не сводимых к мышлению регулятивов, право, основанное на законе, становится мировоззренчески всеобъемлющим, стремясь в пределе «талмудически» охватить единой регламентацией все тончайшие перипетии и нюансы человеческого бытия. Нравственность, напротив, утрачивает самостоятельное значение (прежде охраняемое божественной, т.е. внерациональной, духовной санкцией) и в лучшем случае просто отождествляется с правом, что превосходно продемонстрировал К. Гельвеций – один из наиболее ярких представителей новоевропейской ментальности, считавший, что «честности по отношению ко всему миру не существует» 10 10 Гельвеций. Соч. в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1974. С. 319.
, но всем в духовной жизни управляет «закон интереса», наподобие того, как физический мир подчинен закону движения 11 11 Там же. С. 186.
, а потому и « наука о нравственности есть не что иное, как наука о законодательстве (курсив мой. — Д.Г. )» 12 12 Там же. С. 271—272.
, т.е. нечто, функционально родственное «закону Моисея». Иначе говоря, право само становится моралью, но моралью не отделимой от закона – в силу самой природы мышления (как бытия-в-мире). При этом захватывая все новые области человеческой жизни и распространяясь на сферу морали, право не рационализируется, а напротив, иррационализируется, в своих собственных основаниях отрываясь от мышления (отказываясь их исследовать), в итоге приобретая религиозные черты священности, становясь своеобразной «законнической» религией.
Столь радикальный умственный и нравственный переворот, приведший в результате к фактическому отождествлению границ человеческого бытия с границами рациональности и как следствие – к упразднению определяющей значимости нравственной проблематики (требующей соответствующей проявленности и напряжения человеческого духа), совершился на основе рецепции и синтеза двух дохристианских мировоззренческих традиций, начиная с XVI в. составивших единый фундамент правовой цивилизации: во-первых, римского права в противовес ранее утвердившемуся благодаря христианству «божественному праву», а также народным правовым обычаям в судах – в сфере государственной жизни и, во-вторых, ветхозаветной этики закона 13 13 Декалог и по форме и по содержанию структурно вписан в обширную систему законодательных учреждений Моисея.
(нормативной этики) в противовес «безумию» Нагорной проповеди в моральной сфере. Что касается первого фактора – правового, то секуляризация политики (отделение религии от политической идеологии) как феномен европейской культуры стала возможна благодаря отделению политики от нравственности (и этики). Ярким выразителем этого процесса в эпоху Возрождения стал Н. Макиавелли. Его «Государь», несомненно, создавался в противовес средневековой концепции «богоугодного властелина», столь характерной как для западной, так и для восточной – византийской, русской – культуры, со всей определенностью утверждавшей приоритет нравственных целей в политике. Иными словами, аморализм (точнее, безразличие к морали и нравственности) в политической жизни с необходимостью должен был привести и в результате привел к утрате ею религиозной перспективы. И наоборот, борьба с религией в политике почти всегда приводила к отказу от этики и морали (как нерационального и неэффективного в сфере власти и управления), вплоть до полного снятия ответственности с системы правосудия за несовершенство общества 14 14 См.: Фуллер Л. Мораль права. М.: Ирисэн, 2007.
и утверждения необходимости формального соблюдения правовых процедур, независимо от их исхода 15 15 См.: Вебер М. Хозяйство и общество. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010.
.
Интервал:
Закладка: