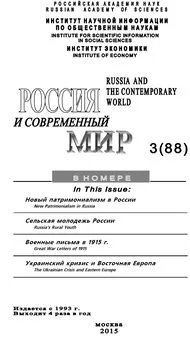Юрий Игрицкий - Россия и современный мир №3 / 2015
- Название:Россия и современный мир №3 / 2015
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Игрицкий - Россия и современный мир №3 / 2015 краткое содержание
Россия и современный мир №3 / 2015 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В ретроспективе последних двух десятилетий конфликт президента и парламента, завершившийся переворотом 21 сентября и расстрелом Белого дома 4 октября 1993 г., представляется особенно трагичным как по причине связанных с ним человеческих жертв, так и из-за упущенной исторической возможности учредить новый конституционный порядок на основе политического компромисса. Варианты конституции, которые могли быть согласованы в ходе диалога между сторонами конфликта, предусматривали большую или меньшую степень равновесия между исполнительной, судебной и законодательной властями. Сам согласительный процесс наподобие польского круглого стола 1989 г. или переговоров испанских политических сил, завершившихся подписанием пакта Монклоа (1977), скорее всего, стал бы преградой для принятия политико-правовой модели, ставящей институт президентства над системой разделения властей. К сожалению, шанс на достижение политического компромисса оказался упущен, главным образом, из-за непримиримой позиции хасбулатовского Верховного Совета.
Конституция Российской Федерации, одобренная на референдуме 12 декабря 1993 г., фактически кодифицировала тот политический порядок, который установился после силового разгона Верховного Совета. Сами обстоятельства принятия новой конституции в значительной степени детерминируют ее содержание. Как отмечает Андрей Медушевский, «превращение России в конституционное государство стало возможным не путем договора (например, между партиями), но в результате разрыва правовой преемственности, острого конфликта новой легитимности и старой законности, чрезвычайной концентрации полномочий президентской власти, объективно выступавшей гарантом переходного процесса» [Медушевский 2005, с. 86]. Не удивительно, что воспоминания о кровавом исходе политического и конституционного кризисов 1992–1993 гг., а также аргументы, ставящие под сомнение достоверность официально объявленных результатов референдума 12 декабря [см.: Исаков 1996, с. 344–349], мало способствуют консолидации политической нации на основе модели конституционного патриотизма [см.: Sternberger 1990]. Принципиальное значение, однако, имеет преемственность ныне действующей конституции по отношению к предыдущим конституционным актам в том, что касается фундаментальных оснований функционирования политической власти. Принцип разделения властей в этой модели оказывается вторичным. Над триадой «исполнительная / законодательная / судебная власти» возвышается власть как таковая, олицетворением и носителем которой выступает президент. Наличие этой константы в Конституции 1993 г. создало благоприятные условия для последующих трансформаций политического режима. В результате существенные ограничения принципов федерализма, местного самоуправления и политического плюрализма стали возможными без какой-либо серьезной правки текста основного закона. Да и сами изменения конституции не смогут быть действенным механизмом развития правового государства до тех пор, пока не сформируются социально-политические предпосылки демонтажа кратократической надстройки над системой разделения властей без разрушения государства как такового.
Принятие Конституции в декабре 1993 г. имело большое значение с точки зрения сохранения государственного единства и разграничения полномочий между Центром и регионами. 1990-е годы могли войти в историю России как период важнейшего преобразования централизованного государства в федеративное. Однако федерализм так и не стал фундаментом государственности Новой России. Фактическая динамика взаимоотношений между Центром и регионами с большей точностью может быть описана в диапазоне «дезинтеграция / реинтеграция». Начало процессам дезинтеграции было положено так называемым «парадом суверенитетов» автономных образований в составе РСФСР, который проходил с августа по октябрь 1990 г. и был явно инспирирован союзным центром, пытавшимся использовать автономии в качестве рычага давления на новую российскую власть во главе с Борисом Ельциным. Особая опасность «парада суверенитетов» состояла в том, что происходил почти мгновенный скачок от фиктивного федерализма к едва ли не принудительному наполнению содержанием прежде пустых форм. Знаменитая фраза: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», произнесенная 6 августа 1990 г. в Уфе, означала, что Ельцин принимает вызов и готов пойти на передачу лидерам регионов значительного объема полномочий, в обмен, разумеется, на их политическую лояльность и поддержку в противостоянии с Горбачёвым. Однако сыграв на повышение ставок, Ельцин все же не смог заручиться уверенной поддержкой лидеров автономий, представлявших наиболее консервативное крыло партийной номенклатуры. Уже на референдуме по вопросу введения поста президента РСФСР в марте 1991 г. голосование было сорвано в Северной Осетии, Татарстане, Туве и Чечено-Ингушетии (взамен в Татарстане был организован свой собственный референдум о государственном статусе этой республики). С каждым новым витком противостояния между Горбачёвым и Ельциным, а затем между Ельциным и Верховным Советом региональные лидеры добивались все нового расширения своих полномочий и разного рода экономических преференций.
В юридическом отношении «парад суверенитетов» породил неразрешимую коллизию суверенитета государства в составе большего суверенного государства. Подписание 31 марта 1992 г. Федеративного договора между руководством РФ и главами регионов ситуацию усложнило еще более, поскольку парадокс «матрешечного суверенитета» и принцип верховенства местных законов над законами РФ были дополнены ярко выраженным статусным неравенством между республиками, краями, областями, городами федерального значения и малыми автономными образованиями. Сама перспектива превращения России в договорную федерацию таила в себе угрозу распада страны, начало которому фактически уже было положено захватом власти в Грозном Джохаром Дудаевым и провозглашением независимости Чечни. Когда же в ходе нарастающего конфликта между президентом и Верховным Советом лидеры регионов начали выступать в качестве посредников, резко возросла вероятность того, что в рамках возможного урегулирования кризиса окончательная версия федеративного устройства будет принята под их диктовку. Последнего все же не произошло, поскольку после силового разгона Верховного Совета исчезла необходимость и в посредниках. Новая Конституция провозгласила верховенство своих норм по отношению к Федеративному договору, хотя и сохранила отсылки к нему в п. 3 ст. 11, описывающей регулирование федеративных отношений. Тем самым была создана правовая двусмысленность, позволяющая рассматривать Россию и как конституционную, и как конституционно-договорную федерацию. Эта двусмысленность уже в период президентства Владимира Путина позволила «встроить» региональные элиты в единую «вертикаль власти», заставив их позабыть о вольнице 1990-х годов. Но надолго ли? Как пишет сыктывкарский политолог Виктор Ковалев, «похожая ситуация, хотя и несколько в другом роде, может гипотетически возникнуть в случае очередного колебания политического маятника, какой-нибудь обсуждаемой уже сейчас новой «оттепели», когда региональные элиты вновь осмелятся вспомнить о том, что их территории – это субъекты Федерации» [Ковалев 2011, с. 64].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: