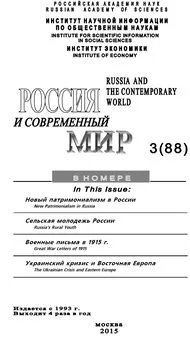Юрий Игрицкий - Россия и современный мир №3 / 2015
- Название:Россия и современный мир №3 / 2015
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Игрицкий - Россия и современный мир №3 / 2015 краткое содержание
Россия и современный мир №3 / 2015 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Опыт социальных и политических изменений в России, странах Восточной и Центральной Европы не позволяет механически оперировать прежними представлениями о трансформациях как о некотором изначально предопределенном движении от исходной точки (точки отклонения) к общей для всех норме рыночной экономики и институтов демократии. Этот детерминистский дискурс был чрезвычайно популярен у российских реформаторов начала 1990-х годов, и именно в этих категориях они обосновывали свою версию экономических реформ. Когда же социальная среда реагировала на эти реформы иначе, чем это было описано в западных учебниках 1980-х годов по макроэкономике, адепты российского неолиберализма невозмутимо констатировали: тем хуже для этой социальной среды, особенно для тех, кто принципиально неспособен адаптироваться к новым условиям 2 2 В статье Юрия Лужкова и Гавриила Попова «Еще одно слово о Гайдаре» приводится следующее высказывание лидера команды реформаторов, сделанное в один из самых тяжелых моментов социально-экономического кризиса: «Идут радикальные преобразования, с деньгами сложно, а уход из жизни людей, неспособных противостоять этим преобразованиям, – дело естественное» [Лужков, Попов 2010].
. В такой оптике социальные трансформации начинают рассматриваться как процесс, пролонгированный в будущее, по крайней мере до момента ухода старшего и среднего поколений, «застрявших» в советском прошлом.
Тезис о предопределенности экономических и политических реформ, сформулированный еще в годы перестройки в известном программном сборнике с красноречивым названием «Иного не дано», в дальнейшем многократно использовался членами гайдаровской команды реформаторов, пытавшихся объявить безальтернативными не только общий курс экономических преобразований, но и конкретные экономические и политические решения начала 1990-х годов. Фактическую и методологическую уязвимость этой тактики отмечают даже некоторые из исследователей, комплиментарно настроенных в отношении реформаторов гайдаровского призыва [см.: Гельман, Травин 2013]. Между тем сам приход в российскую власть Егора Гайдара и его команды объяснялся во многом ситуативными факторами; говорить о безальтернативности тех или иных мер можно лишь применительно к наиболее острым кризисным этапам (к их числу, например, относятся последние недели существования СССР).
Как известно, начало изменениям отношений собственности было положено еще в период горбачёвской перестройки с принятием закона о кооперации, который создал первичные условия для развития предпринимательства. Этим законом, несмотря на многочисленные ограничения и общую нерыночную экономическую среду, сумели воспользоваться сотни тысяч предприимчивых граждан Советского Союза. Многие из них потерпели неудачу, но некоторые добились серьезных успехов и впоследствии сумели перейти в категорию крупных предпринимателей. Вместе с тем создание кооперативов стало способом легализации теневого предпринимательства, являвшегося оборотной стороной советской плановой экономики. Основное же содержание новой экономической активности в период перестройки составляла скрытая номенклатурная приватизация, выражавшаяся в преобразовании ряда отраслевых министерств в концерны, государственных банков – в коммерческие банки, снабженческих организаций – в биржи и т.п. Подлинным авангардом перестроечной номенклатурной приватизации стал комсомольский бизнес, получивший при поддержке центральных партийных органов преференциальные условия развития. К моменту крушения коммунистического режима возникли симбиотические структуры, в которых были представлены и номенклатура, и бывшие теневики, и наиболее удачливые кооператоры. Некоторые из «олигархов» ельцинской эпохи начинали свою карьеру в бизнесе именно в такого рода структурах.
Радикальные экономические изменения, обусловленные коллапсом советской плановой экономики и почти полным параличом институтов власти, начались в 1992 г. Сами реформаторы исходили из того, что на начальном этапе преобразований станут неизбежными крутое падение производства и уровня жизни, затем последует быстрый восстановительный рост, который сменится более устойчивым ростом на основе действия институтов и механизмов рыночной экономики. За этим убеждением стояла ориентация на догоняющее развитие, на то, что Россия с незначительными вариациями способна воспроизвести опыт капиталистического развития стран Запада. На деле, однако, стадия глубокого экономического спада и деградации уровня жизни большинства населения России заняла почти десятилетие.
Первой важнейшей мерой «шоковой терапии» правительства Ельцина–Гайдара стала либерализация цен и торговой деятельности. Пустые полки магазинов наполнились товарами в считанные месяцы, но заплачено за это было галопирующей инфляцией, превысившей в 1992 г. 2500%, и практически полным обесценением сбережений жителей России. Последнее на языке реформаторов называлось «снятием денежного навеса». В результате основная масса населения была отброшена на грань выживания, хотя среди тех, кто в тот момент сделал ставку на торгово-посредническую деятельность, появились и выигравшие. Одним из следствий либерализации цен и фактической конфискации сбережений стала невозможность участия широких слоев населения (в особенности тех, кого можно с известными оговорками называть советским средним классом) в денежной приватизации, которая, кстати, могла бы «нейтрализовать» до 1/3 всей «свободной» денежной массы [см.: Шмелев 1996]. «Шоковая терапия» привела к социальной деградации этих групп, лишив тем самым неолиберальных реформаторов основной базы электоральной поддержки.
Вместо поддержки среднего класса правительство реформаторов уже в первые месяцы своей работы начало создавать себе опору в среде акторов формирующегося рынка, более чем активно используя такие инструменты преференциальной поддержки как льготное кредитование, субсидирование экспорта, дотирование импорта. Фактически с помощью этих инструментов гайдаровское правительство осуществило переформатирование ландшафта номенклатурно-теневого позднесоветского капитализма, по сути дела «назначив» будущих чемпионов этой гонки на выживание. Успех был достигнут быстро: уже к концу 1992 г., когда на VII Съезде народных депутатов РФ Егор Гайдар был вынужден сложить с себя обязанности исполняющего обязанности председателя российского правительства, обнаружилось, что за «технократами» и «бывшими завлабами» стоят силы, представляющие, главным образом, финансовый капитал. Кроме того, в 1992 г. команда реформаторов обрела мощнейшую поддержку международных, прежде всего американских, финансовых кругов, принимавших решения о кредитовании российского правительства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: