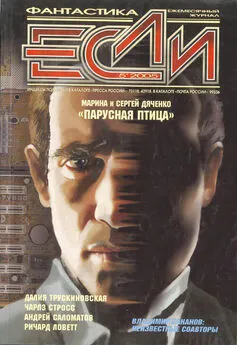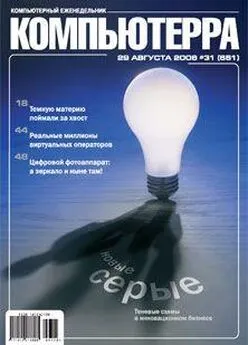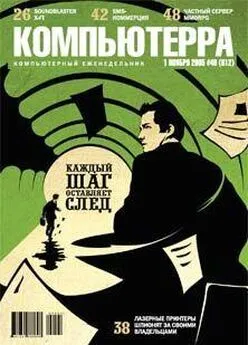Журнал «Если» - «Если», 2005 № 05
- Название:«Если», 2005 № 05
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский дом «Любимая книга»
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:ISSN 1680-645X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал «Если» - «Если», 2005 № 05 краткое содержание
Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
ПЕРО МНЕМОЗИНЫ
Усекновение памяти как передовой метод воспитания.
Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
«ПАРУСНАЯ ПТИЦА»
Для киевского дуэта по-прежнему вся жизнь — театр, а герои — последовательные сторонники системы Станиславского.
Чарлз СТРОСС
БРОДЯЧАЯ ФЕРМА
…не только дезорганизует хозяйственную деятельность персонажей, но и вносит сумятицу в их личную жизнь.
Джастин СТЭНЧФИЛД
ПОВЕШЕННЫЙ, ЛЮБОВНИКИ И ДУРАК
Эта погоня пронизывает века. Какова же ее цель?
Ричард ЛОВЕТТ
ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОМРАЧЕНИЯ
На терроризме «сдвинулись» не только люди, но и компьютеры.
Майк РЕЗНИК, Кей КЕНЬОН
ПОТЕРЯВШИЙСЯ В «КОМНАТЕ СМЕХА»
…ищет из нее выход и находит, правда, весьма неожиданным образом.
Андрей САЛОМАТОВ
КОГДА ПРИДЕТ ХОЗЯИН
Вот и помогай после этого немощным старикам…
М.К.ХОБСОН
УБИТЬ ФАБРИКУ
Нашим бы «очередникам района» их заботы!
Константин АРБЕНИН
СКАЗКИ НА ЗАСЫПКУ
Не торопитесь смежить веки, вот вам еще истории…
ВИДЕОДРОМ
Эта страна построила Великую Стену, но ее кинематограф отнюдь не так велик… Классическая история создания классической истории… Возрождение русской киносказки… Миядзаки возвращается на новом средстве передвижения… Очередной кинокомикс — очередная неудача.
Владимир БАКАНОВ
МЫ СОВЕРШЕННО НЕЗАМЕТНЫ…
Такое мог позволить себе сказать только сам переводчик. Думаем, у многих любителей зарубежной НФ мнение иное.
ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
Где же та граница, когда кончается творчество и начинается произвол?
Сергей НЕКРАСОВ
ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Первый роман новой дилогии интеллектуала-парадоксалиста Дэна Симмонса.
РЕЦЕНЗИИ
Есть чем поживиться книжному гурману.
КУРСОР
Конец еще одной эпохи: на девяносто третьем году жизни скончалась Андрэ Нортон.
МАЙКЛ СУЭНВИК
«Я МЕДЛЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ»
Известный американский фантаст о себе, коллегах и России в эксклюзивном интервью.
ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
Счетная комиссия наконец завершила работу и объявляет итоги голосования.
ПЕРСОНАЛИИ
Для одних авторов номера фантастика — профессия, для других — творческий эксперимент.
«Если», 2005 № 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С тех пор я с чистой совестью пересказываю и улучшаю, коль есть к тому повод. Я не знаю, как трудились крупные мастера, подарившие нам переводы Джека Лондона, Марка Твена, Жюля Верна и других великих; я никогда не сравнивал переведенные тексты с оригинальными. Но вот с «Винни Пухом» я такую работу проделал и оценил мастерство Бориса Заходера, который тоже улучшал и пересказывал. Так что я считаю себя переводчиком заходеровской школы.
Позвольте, но ведь не зря существует понятие «подстрочник»! Какой текст так называют? Правильно: перевод, сделанный с точностью до запятой. Текст, появившийся в результате «того, как написано».
Будет ли хоть одно современное издательство его печатать? Сомневаюсь. Почему? Да потому что в «подстрочнике» утеряна большая часть художественных достоинств исходного текста. Утерян авторский стиль, который не есть «гладкопись», умение правильно строить фразу, как полагают некоторые критики. Нет, авторский стиль как раз и начинается с легких отклонений, о которых нельзя точно сказать, что «так не пишут», но которые запоминаются, легко узнаются и могут принадлежать только определенному автору, как и присущие ему интонации, его личный лексический инструментарий.
При механическом переводе текст становится холодным, обезличенным, скучным. Кто станет издавать такой текст? Кто его купит? Поблагодарит ли за такой перевод автор романа, повести или рассказа?
Недаром в книге замечательной переводчицы Норы Галь «Слово живое и мертвое», где теме «Буква или дух?» отведен целый раздел, сказано: «Примерно так и начинается переводчик. И редактор перевода. Когда перестаешь быть рабом иноязычной фразы, когда превыше всего для тебя не буква подлинника, но его дух».
С этим все примерно ясно. Но дозволено ли переводчику ударяться в другую крайность?
Можно привести множество примеров, когда переводчики так вольно обращались с текстом, что авторского в нем почти ничего не оставалось. При этом страдает введенный в заблуждение читатель, а также автор исходного текста, который несет ответственность за огрехи, сделанные таким «переводчиком», не будучи в них хоть на каплю виновен.
Сразу оговорюсь, что с чужим текстом случалось обращаться более чем вольно и очень талантливым переводчикам, но почти всегда в этом были виновны некие не зависящие от них обстоятельства, вроде диктата цензуры, и почти всегда подобные тексты назывались не переводом, а пересказом.
Между переводом и пересказом, как вы понимаете, большая разница. То есть работа, слишком далекая от оригинала, у бездарного переводчика становится отсебятиной, у талантливого — пересказом, но переводом она перестает быть в любом случае. Получается, излишне вольное обращение с чужим текстом так же недопустимо, как и механический перевод.
Так раб или соавтор? Мне кажется, как часто случается в жизни, истина где-то посередине. Талант переводчика требует не только знания языка оригинала, не только знания собственного языка, не только литературных навыков, но и понимания, порою интуитивного, насколько можно отступить от оригинального текста ради того, чтобы сохранить индивидуальный стиль автора, стараясь одновременно сделать перевод как можно более точным.
Именно поэтому хороших, настоящих переводчиков так мало.
Высказывание Жуковского звучит красиво, но, увы, как и всякий афоризм, оно слишком категорично, а потому неверно. Тем более, что со времен Василия Андреевича утекло много воды, и теоретическое переводоведение шагнуло далеко вперед. Современная теория исповедует принцип адаптации. То есть любой перевод, будь то устный или письменный, научно-технический или художественный, выполняет одну и ту же функцию: формирование в сознании получателя текста образов, максимально приближенных или уподобленных тем образам, которые возникали у автора. Собственно, эту задачу выполняет любой акт коммуникации, специфика перевода заключается лишь в том, что здесь акт является «двуступенчатым» — с промежуточным субъектом коммуникации в лице переводчика, использующего не один, а по меньшей мере два языка. Поэтому обычно перед переводчиком стоит сложнейшая задача: уподобить мысленные образы автора (то, что называется «смыслом») мысленным образам читателя оптимально. Именно в этом и состоит адаптация, которая должна быть именно оптимальной, а не максимальной. Известно немало случаев, когда переводчик, стремясь максимально приблизить исходный текст к тексту перевода, перебарщивал, вследствие чего «продукт» приобретал странные для читателей качества: например, «Жан» превращался в «Ивана», «бутерброд» — в «хлеб с маслом», а из уст иностранцев сыпались исконно русские выражения типа «лаптем щи хлебать».
Задача адаптации, которую вынужден решать любой переводчик, осложняется рядом факторов, в числе которых можно упомянуть и многозначность слов, и синонимию, и национальные реалии, и «игру слов», основанную на специфических особенностях определенного языка, и систему культурных, языковых и мировоззренческих характеристик того или иного народа. А еще переводчику надо перестраивать синтаксис предложений, выбирать наиболее подходящие эквиваленты чуть ли не к каждому слову, разъяснять читателю неологизмы и аллюзии автора. Неудивительно, что этот процесс является сложнейшим видом творческой деятельности, и от личности переводчика, особенностей его восприятия и умения формировать определенные образы зависит очень многое. Недаром одно и то же произведение интерпретируется различными переводчиками по-разному. В связи с этим вспоминается игровой тренинг, которым будущие переводчики частенько забавляются в институте: фраза на каком-либо языке (а лучше небольшой текст) пускается «по кругу», причем каждый из участников не знает предыдущих «ступеней». Конечный результат, как правило, отличался от «исходника», как пресловутая «муха» от «слона».
Так можно ли, с учетом всего этого, утверждать, что переводчик — раб автора? Скорее, соавтор, и даже чуть более того. Основное его отличие от автора заключается в том, что он пользуется «готовым» материалом, но задача, которую он выполняет, не уступает по своей сложности писательской.
Лично мне в этой связи приходит в голову такая аналогия: экранизация литературных произведений. В данном случае кинорежиссер вынужден решать примерно те же задачи, в частности, он должен сделать те образы, которые заложены автором в произведение, визуальными. Поначалу все кажется легко и просто: убрать авторские ремарки к речи персонажей, наглядно передать описания пейзажей и людей. Но потом начинают возникать разные проблемы. Допустим, внутреннюю речь и мысли героев книги можно пустить закадровым текстом, но как быть со специфическими образами, которые вызваны в сознании читателей с помощью письменных знаков? Как показать на экране метафоры, сравнения, эпитеты и прочие особенности авторского стиля? Вот и получается, что каждая экранизация — вполне самостоятельное произведение, хотя и «по мотивам».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: