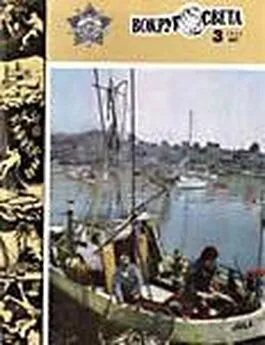Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №03 за 1984 год
- Название:Журнал «Вокруг Света» №03 за 1984 год
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №03 за 1984 год краткое содержание
Журнал «Вокруг Света» №03 за 1984 год - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
От площади расходятся улицы, уступами спадая вниз. Эти наклонные улицы очень похожи на реки, а белые плиты — на льдины. Шагая по плитам, со льдины на льдину, я иду мимо старых дверей...
В конце улицы — школа. На камне у школьных ворот сидит старик.
— Доброе утро, отец,— говорю я ему подходя.
— Здравствуй, милый. — Старик встает, приподнимает папаху и снова садится. Он пыхает трубкой, глаза его весело смотрят на мой фотоаппарат.
— Снимать меня будешь? — говорит он по-русски.— Нельзя. Я один. Два — неможно! Понятно? — Он смеется.
Я киваю; старик хотел сказать, что если он жив, то незачем делать с него копию.
— Сколько вам лет? — подсаживаюсь я на камень.
— Девяносто! — отвечает он с гордостью.— Что? Не веришь?
— Верю.
— Я чарводаром был. Посуду возил.— Старик умолкает и смотрит на гору. Там, за рекой Гердиман, вьется по склону тропа чарводаров. По ней они ходили в города. Где было круто, тропу расширяли карнизом. Карнизы видны до сих пор — лепятся к склонам гор, как ласточкины гнезда.
— Шел вон там, по тропе,— вспоминает старик,— песни пел. Внизу Гердиман шумит, наверху я кричу:
Едем мы всегда вдвоем, Кружки медные везем, Над пустынным Гердиманом Песни громкие поем!
Мы всегда были вдвоем... Я и лошадь. Гуляли где хочешь! А сейчас? Сторож в школе...
Старик поднимается с камня, берет в руки звоночек, Заходит за ворота. Трель раздается над школьным двором, созывая детей на первый урок.
В одном из домов ворота были открыты, и я, любопытствуя, заглянул во двор.
Вот он, лагичский дворик. Замкнутое пространство его, окруженное забором зернистого камня с одной стороны, и домом о двух этажах с другой, вымощено, как и улица, белыми плитами. Из щелей пробивается трава. В двух-трех местах зелеными фонтанами поднимаются фруктовые деревья, отягощенные плодами. В углу, под лестницей, лежат огромные глиняные кувшины, в которых хранят лагичане масло.
Вот на веранде, за деревянной балюстрадой, появился молодой человек в светло-сером костюме, при галстуке, в окружении родителей и младших сестер. Гурьбой они спускаются во двор.
— Входите! — приветливо крикнули мне.
— Он поступил в институт! — восторженно крикнула маленькая сестренка, глядя снизу на брата.
— В какой?
— В медицинский. Хочу стать хирургом,— улыбнулся он застенчиво.
— А отец по профессии кто? — спросил я, рассматривая круглую шапочку на голове шедшего рядом мужчины. В ней он был похож на средневекового алхимика.
— Я — медник,— отозвался мужчина.— Лудильщик.
Загудела машина, и семья высыпала на улицу. Провожая студента в дорогу, мать вылила вслед уходящему сыну воду из кувшина — таков обычай, показала вслед зеркало — тоже обычай, чтоб отразился сын в зеркале и вернулся.
Улица, залитая солнцем, вела к реке. С кувшином за спиной спешили за водой лагичанки. Двери мастерских по обе стороны улицы были открыты. В одной мастерской шили сыромятную обувь — чарыки с загнутым кверху носком, в другой ладили седла и сбрую, в третьей — изготовляли мангалы, подковы, топорики.
Навстречу мне, ведя в поводу осла, нагруженного мешками, шел невысокий мужчина. На голове его была мохнатая папаха, брюки заправлены в шерстяные носки — джорабы.
У дверей одной из мастерских мужчина остановился. Внес в помещение мешки и высыпал уголь из них в закутов под горном. Сейчас же вбежал с улицы мальчик, насыпал угля в устье горна, положил сверху слиток меди, схватился за шест у мехов и стал, приседая, качать.
Мужчина надел кожаный фартук, ухватил щипцами слиток раскаленной меди и бросил его на наковальню. Из соседних мастерских сошлись кузнецы, встали вокруг наковальни — и словно волна побежала по кругу: взлетел кверху молот одного, ударил второй, третий, четвертый... Точность и слаженность движений были поразительны: только отскакивали молотки, замирая на мгновение над головой.
Мастер, держа слиток щипцами, подставлял его под удары то одной, то другой стороной. И чудо — вишнево светясь, на наковальне рождалась чаша. Голые потные торсы кузнецов краснели от пламени горна. Чаша под их молотками становилась все тоньше, изящней, словно распускался весенний мак. Но вот металл начал сереть, остывая. Выхватив чашу из-под молотков, мастер кинул ее в огонь.
Кузнецы сложили у стен молотки и сели отдыхать.
— Что? — посмотрев на меня, усмехнулся кузнец.— Интересно?
— Разве это работа? — отозвался мастер Наги Алиев, прикуривая от раскаленных щипцов.— Вот они помнят,— кивнул он на кузнецов. Те сидели, сложив стынущие руки на коленях.— Их раньше не пять, а двенадцать в круг становилось. Били все в одну точку. Как будто часы. Не мастерская — завод был!
Мастер подошел к горну, вытащил чашу и, осмотрев ее, снова кинул в огонь.
— А рисунки на чаше будут? — спросил я.
Наги снял с гвоздя позеленевший подойник.
— Прадед мой делал рисунки.
На подойнике — звери, птицы с раскрытыми крыльями, женщины, оплетенные вьющимися узорами трав, цветов и старинных одежд. Кузнецы окружили Наги. Кто-то перевернул подойник вверх дном.
— Здесь клеймо мастера,— пояснил Наги.
На дне подойника — круг и вязь арабских букв в орнаменте. Наги опустил тряпку в кислоту, провел ею по меди. Зеленые окислы зашипели, и проявилась надпись.
— «Работа мастера Лезги Али,— переводил Наги.— Мы уходим, мир остается. Мы умрем, это останется памятью. Во имя аллаха, во имя будущей жизни — вот что сделано мною и останется целым, пока на земле длится жизнь. Да благословит бог того, кто это сделал...»
— Вот за этим горном прадед работал. Сто десять лет старик прожил...
— А ты, Наги, сможешь сделать такие рисунки?
— Я? — усмехнулся мастер.— Я и человека из меди могу сделать. Только... — Мастер осекся и махнул рукой.
Я понял его. Многие годы не было дороги к этому затерянному в горах селению, и потому жизнь словно обходила его стороной. Пустел Лагич, все больше брошенных домов, помеченных крестиками, появлялось в селении, уходили в город, не возвращаясь, сыновья мастеров, и медникам некому было передать свое искусство...
Но вот провели из районного центра дорогу в Лагич и объявили его музеем-заповедником. Выделили средства на реставрацию улиц, домов, мечетей. Открыли ковроткацкий цех. Теперь Лагич жив коврами, но как был ремесленным, так и остался.
— Ну а медников больше теперь? — спрашиваю я Наги.
— Как и раньше... Четверо. Правда, подрастают мои сыновья, постигают наше ремесло. Но станут ли медниками?.. Вот был у меня ученик. Нет, не сын, а соседский мальчишка. Учил я его вот здесь, в мастерской. Способный был парень. Кончил школу, уехал в Баку. Стал там чеканщиком. Знаешь, чеканит из меди панно, фигуры танцующих женщин, надписи разные. Видел я его работы. В них нет ничего лагичского... А мне обидно. За себя, потому что учил его, и за прадеда тоже,— кивает он на подойник, висящий на стене мастерской.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: