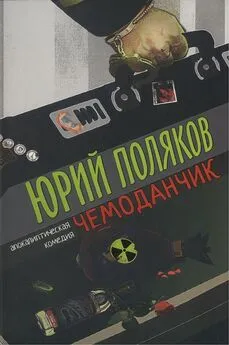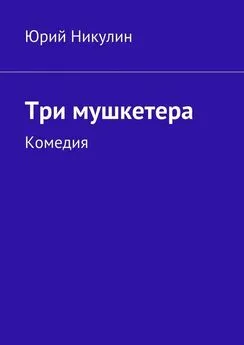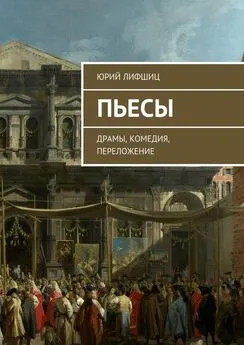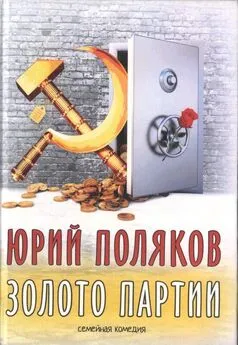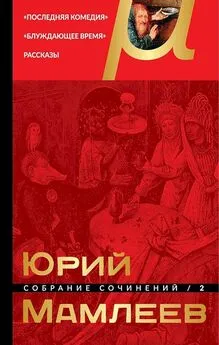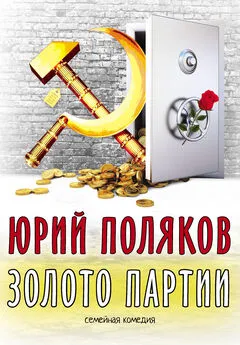Юрий Поляков - Чемоданчик: апокалиптическая комедия
- Название:Чемоданчик: апокалиптическая комедия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «У Никитских ворот»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00095-069-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Поляков - Чемоданчик: апокалиптическая комедия краткое содержание
Апокалиптическая комедия Юрия Полякова «Чемоданчик» — пьеса острая, сердитая, смешная и, возможно, пророческая. Это первое издание полной авторской версии. Премьера апокалиптической комедии, поставленной Александром Ширвиндтом, состоялась в московском театре Сатиры 4 декабря 2015 года.
Чемоданчик: апокалиптическая комедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Будучи прилежным учеником великих, я тоже в меру отпущенных мне способностей пользуюсь этим приемом. Я говорю: «Вы хотите узнать, как меняются женами? Тогда приходите ко мне на „Хомо эректус“!» Люди приходят, но речь-то на сцене не о свинге, а о более серьезных вещах. Не раз, сидя в зале на этом спектакле, я наблюдал одну и ту же ситуацию. Минут через двадцать после начала первого акта какая-нибудь строгая дама средних лет громким шепотом бранит своего спутника: «Куда ты меня привел? Я не могу смотреть на это безобразие!» И уводит беднягу. А в начале второго акта обычно молодой мужик с пивным животом говорит подруге: «Не-а, свинга точно уже не будет. Пошли отсюда!» И они тоже уходят. Остальные, увлеченные интригой, сидят затаив дыхание. Занимательность — вежливость писателя. Но большинство «передовых» драматургов этого просто не умеют. Ошарашить — да, взбесить — да, утомить — да. Увлечь — нет. Угодив на спектакль младореформатора Богомолова, чувствуешь себя застрявшим в тоннеле метро, куда прорвалась канализация. Но, в отличие от узника зафекаленой подземки, можно встать и выйти из зала, что люди и делают.
Станиславский назвал свой театр «художественно-общедоступным», имея в виду, конечно, не цены на билеты. Речь о другом: театр должен говорить со зрителем на одном языке. При внешней очевидности, это очень не просто. Куда легче бредить на личном эсперанто. Эксперимент и метафизику превращает в искусство, которое невозможно без истинного дара. Однако само слово «талант» исчезло из околотеатрального обихода, как графа «национальность» из паспорта. Чувствуя свою художественную недостаточность, многие хотят отгородиться от зрителя с его неоспоримым критерием «интересно — не интересно» железным занавесом, а не четвертой стеной. И вот уже пьесу не ставят, а просто читают в узком кругу «трансляторы», окончившие ГИТИС.
Есть ли выход из сложившейся ситуации? Думаю, есть. Веками в театре центральной фигурой был драматург, именно автор определял происходящее на сцене. Потом началась эра режиссерского театра. С конца XIX века мы видим усиление режиссерского диктата. Сначала постановщик определял, и то отчасти, игру актеров, ансамбль. Затем он стал влиять на решение пространства, костюмы, музыкальное оформление. Наконец, ему стало тесно в рамках выстроенной пьесы. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда режиссер ради хронометража сокращал текст в первом акте, а во втором терялась мотивация поступков. Когда я обращал на это его внимание, он смущался, дескать, мы как-то уже отвыкли, что у драматурга все продумано… В результате сложилась «новая драма», которая не является жанром литературы. Это не пьесы в строгом смысле слова, это темы для режиссерских импровизаций, иногда оригинальные, чаще — вздорные. Но если в пьесе нет диалогов, нет характеров, нет интриги, нет проблем, нет языка, кроме мата, постановщику остается придумывать «новаторскую» форму, чтобы оправдать отсутствие смыслов. С помощью косметики можно подправить недостатки лица. Отсутствие лица не подправить никакой косметикой, даже той, которой пользуются в морге. Разумеется, в прошлое вернуться нельзя, но на какое-то время на сцене снова главным должен стать драматург, писатель. Подчеркиваю: драматург, а не «новодрамец». «Что» снова должно стать важнее «как». Профессионально написанная пьеса, адресованная зрителю, а не соратникам по эстетическому помешательству, способна ограничить бесплодный произвол режиссеров и помочь выскочить из затянувшегося «дня сурка».
5. Нарушитель конвенции
Сюжет «Одноклассницы» я таскал в голове лет десять. Впрочем, ничего особо оригинального я не придумал. «„Традиционный сбор“ Розова?» — спросил кто-то, прочтя пьесу и намекая на преемственность темы. «Нет, — ответил я. — „Двадцать лет спустя“ Дюма-отца». И это нормально. Как говорится, плоха та песня, которая не похожа ни на какую песню. Новое — это понятое старое. Собрать десятиклассников 1961 года в 84-ом, когда им стукнуло сорок, и собрать выпускников 1984 года в 2007-м — не одно и то же. Да, в обоих случаях прошла целая жизнь. Но в первом она уместилась в благословенном застое, а во втором совпала с жестокой, революционной ломкой мироустройства. Выпускник 61-го не мог стать олигархом, а выпускник 84-го — мог. Это было поколение, угодившее в эпоху глобальной перемены участи, и мне захотелось собрать их вместе, чтобы они поглядели друг на друга, а зритель — на них. Но у меня не было того, что называется «ходом». Ну, встретились, ну, поохали, как изменилась жизнь и они сами вместе с нею… А дальше? Достоевскому в поисках сюжетных поворотов помогали газетные разделы судебной хроники. Мне помог телевизор. Я увидел сюжет о несчастном генерале Романове, взорванном в Чечне и потерявшем почти все человеческие свойства, кроме обмена веществ. Так в пьесе появился Иван Костромитин, любимец класса, умница, смельчак, воин-интернационалист, раненный в Афганистане и ставший «теловеком», как с пьяным прямодушием назвал его спившийся поэт Федя Строчков. И сюжет сразу закрутился.
Авторы склонны к самообольщению, но есть какая-то внутренняя жилка, которая безошибочно трепещет, если вещь получилась. Я сразу почувствовал: «Одноклассница» удалась. Однако реальность оказалась сурова, мне вернули пьесу 13 московских театров. Одни без объяснений, вторые с лестными отзывами и сожалениями, что планы сверстаны на пятилетку вперед, третьи сокрушались, что такого количества хороших сорокалетних актеров, нужных для постановки, в труппе просто нет, а приглашенная звезда нынче стоит дорого — не девяностые на дворе. И то — правда. В 1999 году покойный ныне Леонид Эйдлин, экранизируя «Халам-бунду», собрал за совершенно смешные деньги фантастический ансамбль: Вера Васильева, Лазаревы, отец и сын, Светлана Немоляева, Владимир Назаров, Полина Кутепова, Виктор Смирнов, Ирина Муравьева… Сегодня за такие деньги лысину Гоши Куценко не укупишь.
Почему пьеса не увлекла ведущие московские театры, в репертуаре которых зачастую вообще нет современной русской темы? Напомню: Малый театр поднимался на пьесах остросовременного драматурга Александра Островского. Художественный театр начинался с актуальных пьес Чехова, Горького, Андреева, Найденова. «Современник» — это Рощин, Розов, Арбузов, Володин, Вампилов. А где нынешние властители зрительских дум? Не считать же таковым Дурненкова с его дихлофосными сумерками. Почему так случилось?
Попробуем разобраться. В 90-е разговор о главном конфликте эпохи был опасен для власти, ломавшей страну через колено. Либеральная творческая интеллигенция, самый чуткий флюгер Кремля, это уловила и учла. А дальше заработали классовые интересы, ведь худруки, лишенные строгого партийного присмотра, превратились в рантье, живущих с доходов от своего зрелищного бизнеса. Не случайно в современном российском законодательстве то, что делают деятели культуры, называется услугой. Я не шучу! В России буржуазный театр появился раньше буржуазии. Удивительная ситуация: фабриканта Алексеева (Станиславского) судьбы униженных и оскорбленных волновали больше, чем, скажем, наследника «комиссаров в пыльных шлемах» Олега Табакова. Режиссеры, в прежние времена не прощавшие советской власти малейшей оплошности, рыдавшие над каждой слезинкой ребенка, не заметили, что после 91-го в Отечестве появились толпы беспризорных неграмотных детей. Они и в самом деле стали так похожи на рантье, что им не хватает только серебряной цепочки с ножницами — стричь купоны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: