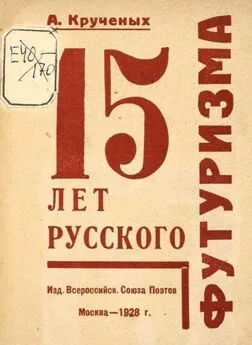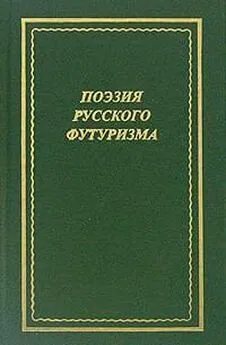Нина Гурьянова - К истории русского футуризма
- Название:К истории русского футуризма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гилея
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-87987-039-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Гурьянова - К истории русского футуризма краткое содержание
В приложениях дается подборка деклараций и статей Крученых, а также две наиболее значительные статьи о нем, написанные его соратниками по «заумной школе» И. Терентьевым и С. Третьяковым. Иллюстрации знакомят с рядом малоизвестных документов и изобразительных материалов.
К истории русского футуризма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Закончив манифест, мы разошлись. Я поспешил обедать и съел два бифштекса сразу – так обессилел от совместной работы с великанами…
Не давая опомниться публике, мы одновременно с книгой «Пощёчина общественному вкусу» выпустили листовку под тем же названием.
Хлебников особенно её любил и, помню, расклеивал её в вегетарианской столовой (в Газетном пер<���еулке>) среди всяческих толстовских объявлений, хитро улыбаясь, раскладывал на пустых столах, как меню.
Вот текст этой листовки:
В 1908 г. вышел «Садок Судей». В нем гений – великий поэт современности Велимир Хлебников впервые выступил в печати. Петербургские мэтры считали Хлебникова сумасшедшим. Они не напечатали, конечно, ни одной вещи того, кто нёс с собой возрождение русской литературы.
Позор и стыд на их головы!..
Время шло. В. Хлебников, А. Крученых, В. Маяковский, Б. Лившиц, В. Кандинский, Николай Бурлюк и Давид Бурлюк в 1913 году выпустили книгу «Пощёчина общественному вкусу».
Хлебников теперь был не один. Вокруг него сгруппировалась плеяда писателей, кои, если и шли различными путями, были объединены одним лозунгом: «Долой слово-средство, да здравствует самовитое, самоценное слово !» Русские критики, эти торгаши, эти слюнявые недоноски, дующие в свои ежедневные волынки, толстокожие и не понимающие красоты, разразились морем негодования и ярости. Неудивительно! – им ли, воспитанным со школьной скамьи на образцах описательной поэзии, понять Великие откровения Современности.
Все эти бесчисленные сюсюкающие Измайловы, Homunculus'ы, питающиеся объедками, падающими со столов реализма – разгула Андреевых, Блоков, Сологубов, Волошиных и им подобных, утверждают (какое грязное обвинение!), что мы «декаденты», последние из них, и что мы не сказали ничего нового, ни в размере, ни в рифме, ни в отношении к слову.
Разве были оправданы в русской литературе наши приказания – чтить права поэтов :
На увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами!
На непреодолимую ненависть к существовавшему языку!
С ужасом отстранять от гордого чела своего, из банных веников сделанный вами, венок грошовой славы!
Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования!
На обороте листовки были помещены для наглядности и сравнения «в нашу пользу» произведения: против текста Пушкина – текст Хлебникова, против Лермонтова – Маяковского, против Надсона – Бурлюка, против Гоголя – мой.
Меньше всего мы думали об озорстве. Но всякое новое слово рождается в корчах и под визги всеобщей травли. Нам, участникам, книги и декларации не казались дикими ни по содержанию, ни по оформлению. Думаю, что они не поразили бы и теперешнего читателя, не очень-то благоговеющего перед Леонидами Андреевыми, Сологубами и Куприными. Но тогдашние охранители «культурных устоев» из «Нового времени», «Русского слова», «Биржевки» и проч. устами Буренина, А. Измайлова, Д. Философова и др. пытались просто нас удушить.
Теперь эта травля воспринимается как забавный бытовой факт. Но каково было нам в свое время проглатывать подобные булыжники! А все они были в таком роде:
– Вымученный бред претенциознобездарных людей…
Это – улюлюканье застрельщика строкогонов А. Измайлова. От него не отставали Анастасия Чеботаревская, Н. Лаврский, Д. Философов и т. д., и т. д.
Писали они по одному рецепту:
– Хулиганы – сумасшедшие – наглецы.
– Такой дикой бессмыслицей, бредом больных горячкой людей или сумасшедших наполнен весь сборник…
Бурлюков
дураков
и Кручёных напридачу
на Канатчикову дачу…
и т. д.
Таково было наше первое боевое «крещение»!..
Тот же Д. Бурлюк познакомил меня с Хлебниковым где-то на диспуте или на выставке. Хлебников быстро сунул мне руку. Бурлюка в это время отозвали, мы остались вдвоем. Я мельком оглядел Хлебникова.
Тогда в начале 1912 г. ему было 27 лет. Поражали: высокий рост, манера сутулиться, большой лоб, взъерошенные волосы. Одет был просто – в тёмно-серый пиджак.
Я ещё не знал, как начать разговор, а Хлебников уже забросал меня мудрёными фразами, пришиб широкой учёностью, говоря о влиянии монгольской, китайской, индийской и японской поэзии на русскую.
– Проходит японская линия, – распространялся он. – Поэзия её не имеет созвучий, но певуча… Арабский корень имеет созвучия…
Я не перебивал. Что тут отвечать? Так и не нашёлся.
А он беспощадно швырялся народами.
– Вот академик! – думал я, подавленный его эрудицией. Не помню уж, что я бормотал, как поддерживал разговор.
В одну из следующих встреч, кажется, в неряшливой и студенчески-голой комнате Хлебникова, я вытащил из коленкоровой тетрадки (зампортфеля) два листка – наброски, строк 40–50 своей первой поэмы «Игра в аду». Скромно показал ему. Вдруг, к моему удивлению, Велимир уселся и принялся приписывать к моим строчкам сверху, снизу и вокруг – собственные. Это было характерной чертой Хлебникова: он творчески вспыхивал от малейшей искры. Показал мне испещрённые его бисерным почерком странички. Вместе прочли, поспорили, ещё поправили. Так неожиданно и непроизвольно мы стали со авторами.
Первое издание этой поэмы вышло летом 1912 г. уже по отъезде Хлебникова из Москвы (литография с 16-ю рисунками Н. Гончаровой).
Об этой нашей книжке вскорости появилась большая статья именитого тогда С. Городецкого в солидно-либеральной «Речи». Вот выдержки:
– Современному человеку ад, действительно, должен представляться, как в этой поэме, – царством золота и случая, гибнущего в конце концов от скуки…
– Когда выходило «Золотое руно» и объявило свой конкурс на тему «Чорт» – эта поэма наверняка получила бы заслуженную премию. 14
Уснащено обширными цитатами. Я был поражён. Первая поэма – первый успех.
Эта ироническая, сделанная под лубок, издевка над архаическим чёртом быстро разошлась.
Перерабатывали и дополняли её для второго издания – 1914 г. мы опять с Хлебниковым. Малевали чёрта на этот раз К. Малевич и О. Розанова. 15
Какого труда стоили первые печатные выступления! Нечего и говорить, что они делались на свой счёт, а он был вовсе не жирен. Проще – денег не было ни гроша. И «Игру в аду», и другую свою 16 книжечку «Старинная любовь» я переписывал для печати сам литографским карандашом. Он ломок, вырисовывать им буквы неудобно. Возился несколько дней.
Рисунки Н. Гончаровой и М. Ларионова были, конечно, дружеской бесплатной услугой. Три рубля на задаток типографии пришлось собирать по всей Москве. Хорошо, что типограф посчитал меня старым заказчиком (вспомнил мои шаржи и открытки, печатанные у него же!) и расщедрился на кредит и бумагу. Но выкуп издания прошёл не без трений. В конце концов, видя, что с меня взятки гладки, и напуганный моим отчаянным поведением, дикой внешностью и содержанием книжек, неосторожный хозяйчик объявил:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: