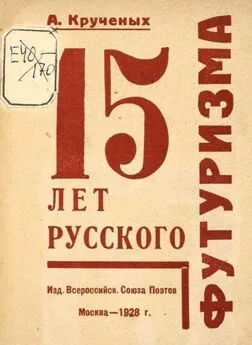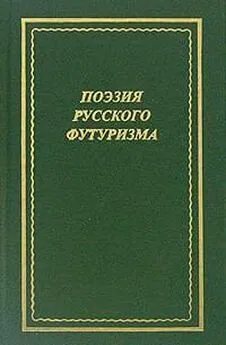Нина Гурьянова - К истории русского футуризма
- Название:К истории русского футуризма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гилея
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-87987-039-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Гурьянова - К истории русского футуризма краткое содержание
В приложениях дается подборка деклараций и статей Крученых, а также две наиболее значительные статьи о нем, написанные его соратниками по «заумной школе» И. Терентьевым и С. Третьяковым. Иллюстрации знакомят с рядом малоизвестных документов и изобразительных материалов.
К истории русского футуризма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
(2) Абрам Захарович Лежнев (Горелик) (1893–1937) – литературный критик, участник группы «Перевал», соратник Полонского в его борьбе с «Лефом», неоднократно выступавший со статьями, направленными против Маяковского. Вячеслав Павлович Полонский (Гусин) (1886–1932) – редактор журналов «Новый мир» и «Печать и революция» в 1920-е гг., критик и историк литературы, выступивший против лефовской теории «социального заказа», опубликовавший в «Известиях» и в «Новом мире» в 1927 г. несколько статей, направленных против «Нового Лефа» и Маяковского, в частности, «Заметки журналиста. Леф или блеф» (Известия ЦИК. 1927. № 48). В своей статье «Блеф продолжается» (Новый мир. 1927. № 5), раздраженный выпадами лефовцев на диспуте в Политехническом музее в том же году, он писал о Лефе как о «мещанском бунте», «грезофарсе», а о Маяковском – как о «нарциссе, кокетничающим с вечностью», «уязвленном я, на которое кто-то наступил ногой», отмечая в его произведениях «явное безумие, нечто среднее между циркулярным психозом и бредом параноика». Вероятно, именно эту статью имеет в виду Крученых, говоря об обвинениях Маяковского в «ячестве».
(3) Из стихотворения «Юбилейное» (1924).
(4) В поэтике Крученых «нутряное», как видно из данной фразы, обозначает «главное в творчестве», начало и квинтэссенцию любого творческого процесса. Ср. характеристику, данную Крученых Еленой Гуро еще в 1912 г.: «Он не от Хлебникова. Хлебников может от одного корня грамматически вызвать целые столбцы слов. И они все же не будут крыть той тайной сути, для которой вызывается дорогой не грамматики, а нутра Крученых, тем он и дорогой… Но это не надо смешивать с макрокосмом, это наше, но наше иной породы. Не охватывается узко сознательным грамматическим языком» (Elena Guro: Selected Prose and Poetry / Edit. A. Ljunggren, N.A. Nilsson. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. P. 65.
(5) Крученых цитирует по памяти, неточно.
(6) Далее в рукописи следует: «и которого он видал больше».
(7) Письма к Лиле Брик, в которых Маяковский шутливо сравнивает себя со щенком и постоянно использует вместо подписи «рисунки-печати», опубликованы Бенгтом Янгфельдом в кн.: Mayakovsky V. Love Is the Heart of Everything: Correspondence between Vladimir Mayakovsky and Lili Brik, 1915-30. Edinburgh: Polygon, 1986; Маяковский В. Любовь это сердце всего: В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик, переписка 1915-30. М.: Книга, 1991.
(8) Эльберт Л. Краткие данные // Огонек. 1930. № 12.
(9) Анализируя здесь эмоциональный надрыв в поэзии Маяковского, Крученых в чем-то отталкивается от своей ранней критической работы «Стихи В. Маяковского», где он говорит о нем как об «апаше в поэзии»:
а отчего же рыдать апашу?
ах, значит вы не знаете этого грубого, примитивного существа! апаш дерзок и циничен но в той же мере и чувствителен (сантиментален)
ведь заметил же кто-то «что набожнее всего эти женщины» Господа! Да разве это можно?
Даже переулки засучили рукава для драки
А тоска моя растет непонятно и тревожно
Как слеза на морде у плачущей собаки
(Трагедия «В. Маяковский»)
переход от ножа к слезам у хулигана дело обыкновенное и это не истерика и не безумие, не
то, что случилось с людьми «утонченной» мозговой кашицы – Ницше, Гаршиным и др.
нет, он только апаш, он зарыдал оттого что его чувства еще сохранили первобытную восприимчивость!
и он дурит он пугает когда изображает безумие
в этом то наше (я говорю о будетлянах, т. наз. «кубофутуристах») спасение! безумие нас не коснется хотя, как имитаторы безумия, мы перещеголяем и Достоевского и Ницше!
хотя мы знаем безумие лучше их и заглядывали в него глубже певцов полуночи и хаоса!
ибо Хаос в нас и он нам не страшен!..
(См.: Крученых А. Стихи В. Маяковского. Выпыт. С. 12–13).
В главе, написанной восемнадцатью годами позже, уже после смерти поэта, Крученых пересмотрел свою интерпретацию, отражающую более поэтику самого Крученых, чем Маяковского. Здесь он ретроспективно рассматривает этот надрыв уже не как «первобытную восприимчивость», в которой он видел «спасение» кубофутуристов, а как «завыванье» – «самую опасную щель в творчестве Маяковского».
(10) Критическую позицию Крученых в анализе стихотворения «Вот так я сделался собакой» разделяет и дополняет Н. И. Харджиев в одной из своих заметок о Маяковском: «Звериные образы» (См.: Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. С. 217–218).
(11) В рукописи вместо слова «рядовая» слова «каждодневно-повторяющаяся».
(12) В рукописи вместо «„телячья“ наивность» – «„снижение темы“!»
(13) Строка из «Облака в штанах» (1915).
(14) Крученых ссылается на первое издание поэмы «Про это».
(15) «Морковным кофе» называет Маяковский поэта Безыменского в этом стихотворении.
(16) В рукописном черновике после этих слов следует несколько иной вариант окончания главы:
Надорванность, безысходность, недужность при такой колоссальной фигуре. Такие резкие колебания для массивной громады особенно опасны: они не сгибают ее, а опрокидывают.
Так в минуты последней тоски и слабости Маяковский тянется к зверью. Но кончается порыв стихийного отчаяния, уныния – и звериный дикий вой и стон уже не нужны Маяковскому. Звериное слишком примитивно, заунывно, слишком «со слезой». А когда нужно бодрое, радостное, энергичное – тогда мало одного «го-го-го»!
Эй, стальногрудые!
Крепкие, эй!
Бей, барабан!
Барабан бей!
Требуется организованность, маршевый шаг, команда, оружие самое современное:
Пули, погуще!
По оробелым!
В гущу бегущим
грянь, парабеллум!
Взамен размедвеживанья – отехничеванье. Зверей превратим в поезда!
Наши плавники – пароходы,
Наши крылья – аэроплан.
Конец Маяковского *
Поздний вариант этой главы был включен Крученых в серию «Живой Маяковский» (вып. 13. Машинопись на правах рукописи, 1933).
(1) Из стихотворения «А все-таки» (1914).
(2) Из стихотворения «Кофта фата» (1914).
(3) Строка из поэмы «Во весь голос» (1929-30).
(4) Чуковский К. Маяковский в пятнадцатом // Одно дневная газета ленинградского отделения ФОСП «Владимир Маяковский». 1930. 24 апреля.
(5) Тема голоса, звучания, звука в поэзии, и, в частности, в поэзии Маяковского – несомненно, одна из наиболее важных для Крученых тем. К ней он постоянно возвращается и в своих поздних воспоминаниях о Маяковском (1959), во многом следуя позиции самого Маяковского, выраженной в его статьях 1920-х гг.:
«Он (критик. – Н. Г.) должен будет уметь критиковать не опертый на диафрагму голос, признавать серьезным литературным минусом скверный тембр голоса.
Тогда не может быть места глупым, чуть ли не с упреком произносимым словам полонских:
„Разве он поэт? Он просто хорошо читает!“
Будут говорить: „он поэт потому , что хорошо читает“» (Маяковский В. Расширение словесной базы // Маяковский: ПСС. Т. 12. С. 162–163).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: